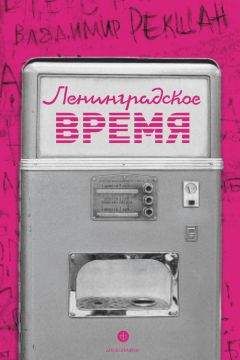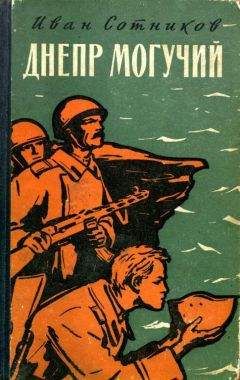Эрнест Хемингуэй - За рекой, в тени деревьев
– Портрет, – сказал он, – дочка, сынок, или моя единственная настоящая любовь, или кто бы ты ни был. Ты ведь сам знаешь, кто ты.
Но портрет опять ничего не ответил. А полковник теперь снова был генералом и ранним утром, да еще с помощью вальполичеллы, знал все насквозь, он знал, словно трижды проверил по Вассерману, что в портрете нет никакой подлости, и стыдился, что нагрубил ему.
– Слышишь, портрет, я сегодня постараюсь быть таким хорошим, каких ты, черт побери, еще не видел. Можешь сообщить об этом своей хозяйке.
Но портрет, по своему обыкновению, молчал.
«Небось с кавалеристом она держалась бы иначе», – думал генерал. Теперь у него уже было две звезды, они давили ему на плечи и белели на мутно-красной потертой дощечке, прибитой к капоту его «Виллиса». Он никогда не пользовался ни штабными машинами, ни бронированными автомобилями, обложенными изнутри мешками с песком.
– Ну тебя к черту, портрет! И пусть тебе отпустит грехи вселенский поп, мастер по всем религиям сразу.
– Поди к черту сам, – сказал ему портрет, не разжимая губ. – Солдатское отребье!
– Что правда, то правда, – сказал полковник, который снова стал полковником, отказавшись от былых чинов и званий. – Я очень тебя люблю за твою красоту. Но девушку я люблю больше, в миллион раз больше.
Девушка на полотне не откликнулась, и эта игра ему надоела.
– Ты скован по рукам и по ногам, портрет. Даже если бы тебя вынули из рамы. А я еще буду маневрировать.
Портрет молчал так же, как и тогда, когда его принес портье и, с помощью второго официанта, показывал полковнику и девушке. Полковник посмотрел на него, и теперь, когда в комнате стало совсем или почти совсем светло, увидел, как он беззащитен.
Он увидел, что это портрет его единственной настоящей любви, и сказал:
– Прости меня за все глупости, которые я тебе наговорил. Мне ведь и самому не хочется быть хамом. Давай попробуем немножко поспать, вдруг нам это удастся, а там, глядишь, и твоя хозяйка позвонит нам по телефону.
«Может, она наконец позвонит», – думал он.
ГЛАВА 18
Посыльный просунул под дверь «Gazzetino», и полковник бесшумно поднял ее, как только она проскользнула в щель.
Он взял газету чуть ли не из рук посыльного. Он не выносил этого посыльного с тех пор, как, случайно вернувшись в номер, застал его за обыском своего чемодана. Полковник забыл бутылочку с лекарством и возвратился с полпути, а посыльный шарил у него в чемодане.
– В такой гостинице как-то неловко говорить: «Руки вверх!» – сказал полковник. – Но вы, ей-богу, позорите свой город!
Человек в полосатом жилете с мордой фашиста только отмалчивался, и полковник его подзадорил:
– Валяй, уж досматривай до конца. Но военных тайн я в мыльнице не ношу.
С тех пор они друг друга недолюбливали, и полковнику нравилось выхватывать утреннюю газету чуть ли не из рук человека в полосатом жилете – бесшумно, как только он замечал, что газета появляется под дверью.
– Ладно, сегодня твоя взяла, хлюст ты этакий, – произнес он на отличном венецианском диалекте, что было ему совсем не легко в столь ранний час. – Чтоб тебе удавиться!
«Но такие не давятся. Они знай себе суют под дверь газеты людям, которые уже не чувствуют к ним ненависти. Да, бывший фашист – это нелегкое ремесло. А может, он и не бывший, а настоящий? Почем ты знаешь?»
«Мне нельзя ненавидеть фашистов, – думал он. – И фрицев тоже, потому что, к несчастью, я военный».
– Послушай, портрет, – сказал он. – Разве я должен ненавидеть фрицев за то, что мы их убиваем? Разве я должен их ненавидеть и как полковник, и как человек? По-моему, это уже больно простое решение вопроса.
– Ладно, портрет. Не думай об этом. Брось! Ты еще слишком молод, чтобы в этом разбираться. Ты на два года моложе той девушки, с которой тебя писали, а она и моложе и древнее самой преисподней – хотя у этого местечка большое прошлое.
– Послушай, портрет, – сказал он и, говоря это, знал, что теперь у него до самой смерти будет с кем поговорить по утрам, когда проснешься.
– Слушай, что я тебе говорю, портрет. К черту, ты ведь до этого еще не дорос. Такие мысли нельзя произносить вслух, как бы верны они ни были. Многого я так и не смогу тебе сказать, и, может, для меня это к лучшему. Пора, чтобы и мне хоть немножко было лучше. А как ты думаешь, портрет, для меня ведь так будет лучше?
– Чего же ты приумолк, портрет? – спросил он. – Проголодался? Я-то, кажется, проголодался.
И он позвонил коридорному, который приносил ему завтрак.
Он знал, что, хотя уже светло и на Большом канале видна каждая свинцовая и выпуклая от ветра волна, а прилив нагнал много воды к причалу Дворца прямо против окон его комнаты, – телефонного звонка он долго не услышит.
«Молодые спят крепко, – думал он. – Им так и полагается».
– Почему мы стареем? – спросил он коридорного со стеклянным глазом, который подал ему меню.
– Откуда я знаю, полковник? Наверно, это закон природы.
– Да. И я так подозреваю. Глазунью, чай и поджаренный хлеб.
– А из американских блюд ничего не хотите?
– К чертовой матери все американское, кроме меня самого. A Gran Maestro уже пришел?
– Он достал для вас вальполичеллу в больших оплетенных флягах по два литра; вот я принес вам графин.
– Ну и человек, – сказал полковник. – Господи Иисусе, как бы я хотел дать ему полк.
– Вряд ли он возьмет.
– Да, – сказал полковник. – Мне и самому он совсем ни к чему.
ГЛАВА 19
Полковник позавтракал неторопливо, как боксер, который после зверского удара слышит счет «четыре» и умеет за оставшиеся пять секунд дать отдых мышцам.
– Портрет, – сказал он, – тебе бы тоже не мешало дать отдых мышцам. Боюсь только, что вот как раз это тебе и не удастся. Мы тут ограничены тем, что зовут статическим началом в живописи. Понимаешь, портрет, почти ни в одной картине – я говорю о живописи – нет движения; только некоторые художники это умеют. Очень немногие.
Я бы очень хотел, чтобы твоя хозяйка была здесь и принесла с собой движение. Откуда девушки, вроде тебя или нее, так много знают с самых ранних лет и почему вы такие красивые?
У нас в Америке, если девушка хороша, она наверняка из Техаса и, если тебе повезет, знает, какой нынче месяц. Но вот считают они все хорошо.
Их учат считать, держать коленки вместе и накручивать локоны на бигуди. За свои грехи, если у тебя есть грехи, – попробуй как-нибудь, портрет, поспать в одной постели с девушкой, которая закрутила волосы на бигуди, чтобы завтра быть покрасивее! Не сегодня, а именно завтра. Сегодня они никогда не стараются быть красивыми. А вот завтра – другое дело. Завтра надо выдержать конкуренцию.
А Рената – то есть ты сама – спит, не думая о своих волосах. Они разметались по подушке, эти темные шелковистые волосы – для нее всего-навсего надоедливая обуза, – их вечно забываешь расчесывать, несмотря на причитания гувернантки.
Я так и вижу, как она идет по улице, легким, размашистым шагом, ветер треплет ее волосы, как хочет, а грудь приподнимает свитер, и потом я вижу ночи в Техасе, тягостные, словно натянутые на металлические бигуди.
– Не коли меня этими железками, любимая, – сказал он портрету, – а я уж тебе отплачу круглыми, полновесными серебряными долларами или чем-нибудь еще.
«Опять грубишь», – подумал он.
И вдруг сказал уже совсем по-свойски:
– Ты так чертовски красива, что даже тошно. И к тому же с тобой непременно угодишь в тюрьму за растление малолетних. Рената все же старше тебя на два года. А тебе нет и семнадцати.
Почему она не может быть моей, почему я не могу любить ее и тешить, быть всегда добрым и ласковым, родить с ней пятерых сыновей, а потом разослать их во все пять концов света, где бы эти концы ни были? Не понимаю. Такая уж, видно, мне выпала карта. А ты не пересдашь ли мне, банкомет?
Нет. Карты сдают только раз, а ты их берешь и начинаешь играть.
И я бы мог выиграть, если бы вытянул хоть что-нибудь подходящее, – сказал он портрету, но тот не выказал никакого сочувствия.
– Портрет, – сказал он, – отвернись-ка лучше, будь поскромнее.
Я сейчас приму душ и побреюсь – тебе-то никогда не приходится бриться, – а потом надену военную форму и пойду пройдусь по городу, хотя сейчас еще очень рано.
И он вылез из кровати, осторожно ступив на раненую ногу, которая всегда у него болела. Он выключил раненой рукой настольную лампу.
В комнате было достаточно светло, и он уже целый час зря жег электричество.
Он пожалел об этом – полковник всегда жалел о своих промахах.
Он обошел портрет, мельком взглянул на него и стал рассматривать себя в зеркало. Скинув пижаму, он стал разглядывать себя критически и непредвзято.
– Ах ты искореженный старый хрыч, – сказал он зеркалу. – Портрет – прошлое. Настоящее – сегодняшний день.
"Брюхо не торчит, – сказал он мысленно. – Грудь тоже в порядке, если не считать больной мышцы внутри. Ну что ж, кого на казнь ведут, того и повесят, а уж на радость это или на горе – там видно будет.