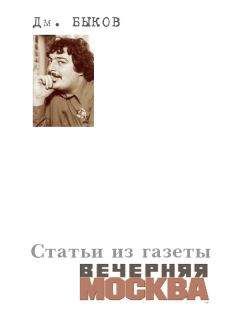Анатоль Франс - 8. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма
Мне нелегко сделать это признание. Ибо нет ничего более сладостного, чем любить молодежь и быть ею любимой. В этом высшая награда и утешение. Молодежь так искренне превозносит тех, кто ее хвалит! Она восторгается и любит так, как, собственно, и следует восторгаться и любить: сверх меры. Только она и способна так щедро раздавать лавровые венки. О, как хотелось бы мне почувствовать связь с новой литературой, верить в ее будущие произведения. Если бы я мог превозносить стихи и так называемую «прозу» декадентов, я охотно примкнул бы к самым смелым из импрессионистов, чтобы сражаться вместе с ними, сражаться за них. Но для меня это значило бы сражаться в полной темноте, ибо я ровно нечего не вижу в этих стихах и этой прозе, а вы ведь знаете, что даже Аякс — храбрейший из осаждавших Трою греков — молил Зевса дать ему сразиться и погибнуть при свете дня:
Мне очень жаль, но я не чувствую никакой связи с молодыми декадентами. Будь они сенегальцами или лапландцами, — они и тогда не производили бы на меня более странного впечатления, чем теперь.
И это именно так. Кстати, на всех бульварах продается сейчас брошюра, ценой в одно су, посвященная готтентотам из Акклиматизационного сада. Я не преминул купить ее, ибо по природе своей я — зевака и любитель заниматься всякими пустяками. Совершенно так же другой парижанин, живший во времена Лиги[116], Пьер де Летуаль, к которому я чувствую большую симпатию, покупал все книжонки, о которых кричали у него под окнами на старой улице Сент-Андре-Дезар. Я прочел эту книжечку не без удовольствия и нашел в ней песню к луне, сочиненную каким-то поэтом, по имени не то Намака, не то Корана, не то десять, не то тысячу лет тому назад, которую, говорят, распевают в краалях, в готтентотских хижинах под дикие звуки гитары.
Вот эта песня:
Добро пожаловать, милая луна! Мы соскучились по чудесному твоему свету. Ты верная подруга. Этот нежный ягненок и великолепный табак — для тебя. Если же ты отвергнешь наши приношения, то мы, милая луна, поедим и покурим за тебя!
Песня, как видите, не очень поэтичная. У готтентотов нет ни бога, ни поэзии, — во всяком случае они считают, что бог не занимается человеческими делами, в чем, замечу мимоходом, их мнение совпадает с мнением некоторых наших великих философов. У готтентотов нет идеалов. Но песенка их, обращенная к луне, все же трогает меня. Когда мне переводят ее — я понимаю ее смысл. А вот, несмотря на все старания господ Хосе-Марии де Эредиа[117] и Катюля Мендеса, которые переводят мне наперегонки сонеты новой школы, я в них решительно ничего не могу понять. Повторяю, я чувствую, что этот бедный дикарь мне ближе, чем декадент. Я не могу понять, что такое импрессионизм. Символизм приводит меня в изумление. Вы скажете мне, милостивый государь, что именно в этом его задача. Мне кажется, что это не так и что это своего рода болезнь. Я думаю даже, что она может быть смертельной. Я, например, совсем ничего не слышу теперь о сонетах г-на Гиля. Года два тому назад я получал издания декадентов и журналы символистов; добрый, верный новой плеяде поэтов издатель г-н Леон Ваннье присылал мне странные книжонки, которые страшно забавляли меня в часы извращенной игры ума; он даже заходил ко мне в гости и очень мне понравился. Это тихий и жизнерадостный человек. По вечерам, стоя на пороге своего дома, он смотрит на огромные темные силуэты башен Собора Парижской богоматери, и ему грезится, что с его помощью растет какой-нибудь новый Гюго. Теперь мне не присылают больше ничего, и я боюсь, не вымерло ли уже на три четверти племя символистов. Рок, как говорил поэт, только поманил ими землю.
Необычные то были люди — все эти молодые поэты и молодые прозаики! Тогда во Франции еще не видывали ничего подобного, и интересно было бы найти причины, породившие и сформировавшие их. Я не собираюсь слишком глубоко вдаваться в это исследование. Не стану восходить к первичной туманности. Это значило бы вернуться к слишком далеким временам и вместе с тем не к таким уж далеким, ибо ведь существовало же что-нибудь и до первичной туманности! Я начну только с натурализма, который стал завоевывать нашу литературу к середине эпохи Второй империи. Его дебют был блистательным, он сразу же создал шедевр — «Госпожу Бовари». И не будем заблуждаться: натурализм был превосходен во многих отношениях. Он знаменовал собой возвращение к действительности, которую романтизм безрассудно презирал. Это было восстановление прав разума. Но, к несчастью, натурализм вскоре подвергся властному влиянию писателя, одаренного талантом могучим, но ограниченным[118], грубым, безвкусным и не знающим чувства меры; однако без чувства меры не может быть и искусства. Кажется, я довольно точно охарактеризовал здесь нового кандидата во Французскую Академию[119], — того, кто еще недавно сделал такое откровенное и в равной мере изящное заявление: «Я разделил свои визиты на три группы».
С его помощью натурализм сразу упал в грязь. Скатившись на последнюю ступень пошлости, вульгарности, лишенный всякой красоты — и красоты духа, и красоты формы, — уродливый и тупой, натурализм этот вызвал отвращение у людей с тонким вкусом.
Как вы знаете, реакция никогда не бывает благоразумной. Пожалуй, чем больше она назрела, тем больше она неистовствует. Символизм был вызван к жизни Меданской школой[120]. Точно так же в Римской империи, если дозволено сравнивать малое с великим, грубая чувственность породила аскетизм.
По существу наши молодые поэты — мистики. Я недавно встретил такую фразу в житии одного из Фиваидских пустынников: «Читая Священное писание, он искал в нем аллегорий». Последователям г-на Малларме нужны аллегории и все тайны древних теургий. Нет скрытого смысла — нет поэзии. Говорят даже, будто глава школы считает, что выдающееся произведение должно содержать три смысла, напластованные один на другой. Первый — буквальный и грубый — доступен тем праздным людям, что, остановившись в галереях Одеона или у прилавков книготорговцев, просматривают книги, не разрезая их. Второй, более духовный смысл явит себя читателю, пользующемуся ножом для разрезания книг. Третий смысл, бесконечно утонченный, но и упоительный, достанется в награду посвященному, который сумеет прочесть строки в некоем мудром и тайном порядке. В каком же именно? Не в порядке ли чисел 3, 6, 5, который соответствует ночному оку Озириса? Но это только догадка. Боюсь, что третий смысл так и останется для меня навеки недоступным.
Я не знаю в точности, как воспринимал какой-нибудь современник Птолемея Филадельфа поэму Ликофрона[121], но мне кажется, что у иных утонченных александрийцев мозг был устроен приблизительно так, как у г-на Малларме и его учеников.
Рядом с ними я вижу целый рой молодых романистов — весьма разумных и отнюдь не символистов. Среди них есть и последователи Эмиля Золя. Вам известно, милостивый государь, что подражать романам Эмиля Золя весьма легко. Метод в них всегда нетрудно обнаружить, следствие всегда преувеличено, философия всегда ребяческая. Благодаря крайней простоте построения этих романов с них так же легко делать копии, как с византийских богородиц, а вернее, пожалуй, — с эпинальских лубков. Другие писатели, столь же юные, но уже более самостоятельные, стремятся выразить собственный идеал. К несчастью, они в большинстве своем чересчур резки и прямолинейны; они слишком бьют на эффект, слишком стараются показать свою силу. Это тоже одна из неприятных сторон современного искусства. Оно грубо. Оно не боится смутить читателя, оскорбить его вкусы. Сии писатели воображают, что достигли цели, если им удалось попрать общепризнанную мораль, нарушить приличия. Это глубокое заблуждение, простительное и почти трогательное в очень молодых людях, ибо в нем проявляется их величайшее простодушие. Им неизвестно, что в цивилизованном обществе порок не меньше, чем добродетель, заинтересован в сохранении моральных устоев, в почтительном отношении к приличиям. Они не знают, что соблюдение устоявшихся правил общежития в конечном счете выгодно для любых инстинктов. Но хотелось бы, чтобы нашим молодым романистам было менее чуждо чувство уважения.
Что безусловно заслуживает похвалы — это их сознательное отношение к технике своего искусства. Если они пишут плохо, то не столько по незнанию правил, сколько из пренебрежения к ним, ибо, как вы знаете, согласно господствующему ныне предрассудку, хорошо построенная книга тем самым уже заслуживает презрения. Стоило г-ну Октаву Фейе[122] проявить мастерство композиции, как к нему потеряли уважение. Для наших юнцов главное — хорошо написанный кусок, и они удивительно искусно с этим справляются. Они превосходные мастера, знающие свое ремесло на славу. Среди них есть несколько очень образованных и даже ученых людей, подающих серьезные надежды и обладающих всеми данными, чтобы писать.