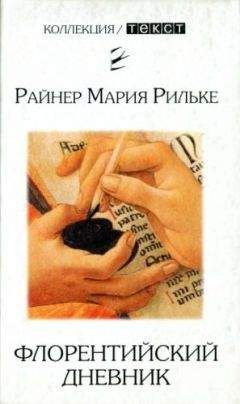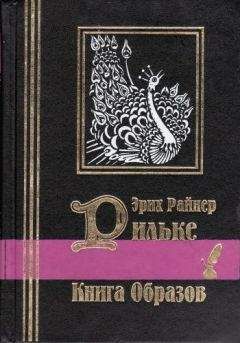Райнер Рильке - Записки Мальте Лауридса Бригге
Я снова невольно глянул на прекрасный, соразмерный лик. И тотчас я понял, что он хотел уверенности. Он всегда ее жаждал. Теперь настал его срок ее обрести.
— Вы явились для перфорации сердца. Прошу вас.
Я поклонился и отступил. Оба доктора склонились одновременно и тотчас стали совещаться о своей работе. Уже кто-то убрал свечи. Но вот старший сделал по направлению ко мне несколько шажков. Затем, избавляя себя от труда преодолевать все расстояние, он простер руку и злобно меня оглядел.
— Нет необходимости, — сказал он. — То есть, я полагаю, вам лучше бы…
Скупая рассчитанность его движений показалась мне пошлой и неуважительной. Я опять поклонился. Так уж получалось, что я все кланялся.
— Благодарю, — сказал я кратко. — Я мешать не буду. Я знал, что могу это претерпеть и незачем уклоняться.
Так надо. Быть может, так прояснится смысл целого. И я еще не видывал, как кому-то вспарывают грудь. Я счел разумным не пренебрегать удивительным переживанием, которое мне так естественно выпало. В разочарование я тогда уж не верил; значит, нечего было бояться.
Нет, нет, ничего на свете нельзя заранее вообразить, ни малейшей малости. Все состоит из множества частностей, которые предусмотреть невозможно. В предвидении мы их проскакиваем, второпях не замечая их недостачи. Действительность куда медленней и подробней.
Например, кто мог вообразить это сопротивленье. Едва обнажилась широкая сильная грудь, спешащий маленький человечек нацелился скальпелем на нужное место. Но ловко приставленный инструмент туда не проник. Мне показалось, что время — все сразу — вышло из комнаты. Мы стояли в ней как написанные на полотне. Но вот снова, с легким, скользким шорохом, время накатило на нас, и его стало слишком много. Вдруг что-то стукнуло где-то никогда я не слышал, чтобы что-то так стучало: душный, сдавленный, сдвоенный стук. Ухо мое передало его мозгу, и тотчас я увидел, что доктор нанес свой удар. И однако же два эти впечатления не сразу соединились во мне. Так-так, с этим, значит, покончено. Стук прозвучал почти издевкой.
Я взглянул на человека, которого, казалось, давно уже знал. Нет, он сохранял совершенную невозмутимость — быстро, четко работающий господин, которому срочно надо мчаться еще куда-то. Ни малейших признаков удовольствия, удовлетворения сделанным. Лишь на левом виске, уступая древнему инстинкту, встало дыбом несколько волосков. Он осторожно извлек инструмент. Открылся как бы рот, выбросив кровь двумя толчками, словно произнеся что-то двусложное. Светловолосый юнец элегантным жестом отер рану ватой. И она успокоилась, как закрытый глаз.
Надо признаться, я опять поклонился, на сей раз почти не помня себя. Во всяком случае, я поразился, обнаружив, что они ушли. Кто-то уже привел в порядок мундир, и, как прежде, пересекала его белая лента. Но теперь егермейстер был мертв — и не он один. Проткнули сердце, наше сердце, сердце нашего рода. Он угас. И сломан был шлем. «Бригге сегодня — и больше никогда», — отдалось во мне.
О своем сердце я не думал. И, как потом уж пришло мне в голову, я впервые с уверенностью понял, что оно здесь не в счет. Это — отдельное сердце. И оно тогда уже, сразу, начало все сначала.
Я знаю, я сам вообразил, что не могу тотчас уехать. Сперва все нужно уладить, убеждал я себя. Что требовалось уладить, оставалось неясным. Делать было почти нечего. Я бродил по городу и замечал, что он переменился. Приятно было выходить из гостиницы, где я остановился, и убеждаться, что теперь это город взрослых, почти не признающийся в нашем родстве. Все чуть-чуть уменьшилось, и я бродил по Лангелиние до маяка и обратно. На подступах к Амалиенгаде город вдруг опять пускал в ход свою старую, испытанную власть. Были тут кой-какие угловые оконца, крылечки и фонари, которые чересчур много о тебе знали и тебя шантажировали. Я смотрел им в лицо и давал понять, что остановился в гостинице «Феникс» и в любую минуту могу уехать. Но совесть моя не успокаивалась. Я начал подозревать, что так и не преодолел этих связей. Когда-то я прервал их тайком, незаконченными, на полуслове. Детство тоже надо исполнить до конца, если не хочешь утратить его навеки. И едва я понял, что утратил его, я почувствовал, что мне уже не на что опереться.
Час-другой я ежедневно проводил на Дроннингенс Твергаде, в тесных комнатах, имевших оскорбленный вид всех нанятых помещений, где кто-то умер. Я сновал от письменного стола к белому кафельному камину и жег бумаги егермейстера. Сперва я бросал в огонь целые пачки, но они так плотно были увязаны, что лишь обугливались по краям. С усилием заставил я себя их развязать. Большинство хранило острый, настойчивый запах, проникавший в душу и взывавший как бы к моим собственным воспоминаниям. Я их не имел. Случалось, из пачки выскальзывал тяжелый дагерротип; дагерротипы эти неимоверно долго горели. Бог весть отчего, я вдруг вообразил, что найду среди них лицо Ингеборг. Но всякий раз это оказывались величавые, зрелые, ярко красивые женщины, пускавшие мои мысли по совсем иному руслу. Вдруг оказалось, что я не вовсе лишен воспоминаний. Именно в этих глазах я подростком, помнится, видел себя, когда отец взял меня с собой на прогулку. Из окна скользнувшей мимо кареты они задержались на мне, и я не знал, куда деться. Теперь я понял, они сравнивали, и сравнение было не в мою пользу. Еще бы; егермейстер мог не бояться сравнений.
Зато теперь я, кажется, понял, чего он боялся. Сейчас расскажу, как я пришел к своему заключению. В самой глубине бювара лежал листок, давным-давно сложенный и истертый по сгибам. Я его прочитал, прежде чем сжечь. Он был тщательнейше исписан его твердым, правильным почерком; но тотчас я заметил, что это всего лишь выписка.
«За три часа до смерти», — начинался листок, и речь шла о Христиане IV. Я, разумеется, не запомнил всего дословно. За три часа до смерти он попытался подняться. Доктор и Вормиус, камердинер, помогли ему встать на ноги. Он стоял пошатываясь, но стоял, и они на него накинули стеганый халат. Потом вдруг он опустился на край постели и сказал что-то. Они не поняли. Доктор держал короля за левую руку, чтобы тот не рухнул на постель. Так сидели они, и время от времени король повторял коснеющим языком то, неразборчивое. Наконец доктор сам к нему обратился; он надеялся догадаться, что угодно его величеству. Но король прервал его и вдруг произнес совершенно отчетливо:
— Доктор, доктор, назовите, назовите — как?
Доктор не сразу опомнился:
— Шперлинг[61], всемилостивейший государь.
Но уже это было неважно. Едва он убедился, что его поняли, король открыл еще служивший ему правый глаз и всем лицом сказал то единственное слово, которое часами складывал его язык, единственное уцелевшее слово.
— Doden, — сказал он. — Doden.[62]
Больше на листке не было ничего. Я перечел его несколько раз, прежде чем сжечь. И вспомнил, что отец перед смертью страдал ужасно. Так мне говорили.
С тех пор я много раздумывал о страхе смерти, опираясь в какой-то мере и на личный опыт. Пожалуй, я могу с уверенностью сказать, что испытал этот страх. Он охватывал меня вдруг, на шумных улицах, среди многолюдства, часто без всяких причин. Но часто оснований было достаточно; например, когда некто отошел на скамейке и все стояли и смотрели, а он был уже недосягаем для всякого страха; тогда-то изведал я его страх. Или в Неаполе, когда в трамвае умерла сидевшая напротив меня девушка. Сначала казалось, что просто она потеряла сознанье; мы даже еще немного проехали. Но скоро сделалось ясно, что надо остановиться. Сзади тормозили, скапливались, получился затор, будто никогда уж не будет движения по этой улице. Белая рыхлая девушка мирно умерла бы, склонясь на плечо соседки. Но мать не могла этого допустить. Она всячески ей мешала. Привела в беспорядок ее одежду, что-то совала в уже ничего не принимающий рот. Терла ей виски кем-то предложенной жидкостью, и когда чуть-чуть выкатились глаза, стала ее трясти, чтоб вернуть на место взгляд. Она кричала в эти ничего не слышавшие глаза, она дергала и таскала ее, как куклу, и наконец подняла руку и наотмашь ударила по пухлому лицу, чтоб не умирала. И тут я испугался.
Но я уж и раньше изведал этот страх. Например, когда умирал мой пес. Тот самый, который меня раз и навсегда овиноватил. Он очень страдал. Весь день я простоял на коленях с ним рядом, и вот вдруг он коротко, сдавленно тявкнул, как тявкал, когда в комнату входил чужой. Между нами было условлено, что так он лаял в подобных случаях, и невольно я глянул на дверь. Но это было уже в нем. Я тревожно искал его взгляда, он тоже ловил мой взгляд. Не для прощанья. Взгляд его был враждебный и жесткий. Он упрекал меня, что я допустил это войти. Он был уверен, что я мог этому помешать. Он, оказалось, всегда меня переоценивал. И уже не оставалось времени с ним объясниться. Он смотрел на меня отчужденно и одиноко, пока все не кончилось.