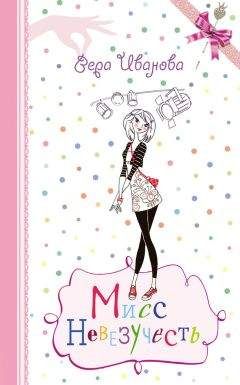Гюстав Флобер - Мемуары безумца
А когда наступал вечер, и мы лежали в белых постелях за белыми пологами, и надзиратель одиноко прохаживался по дортуару, как глубоко уходил я в себя, с наслаждением скрывая в груди эту жаркую трепещущую птицу! Обычно я долго не засыпал, слушал бой часов, и чем дольше они звонили, тем счастливее я был; казалось, они увлекали меня вдаль, напевая, приветствуя каждый миг моей жизни и говоря: «Вперед! Вперед! В будущее! Прощай! Прощай!» И когда угасал последний отзвук, стихал гул в ушах, я говорил себе: «Завтра они будут бить в тот же час, но завтра останется на день меньше и днем ближе к ней, к сияющей цели, к будущему, к солнцу. Сейчас его лучи тянутся ко мне, а тогда я прикоснусь к нему». Но я вспоминал, что будущее придет не скоро, и засыпал, едва не плача.
Некоторые слова волновали меня, особенно женщина, любовница, первому я искал объяснения в книгах, на гравюрах, на картинах, где я хотел бы сорвать покровы, чтобы обнажить тайну. В день, когда я, наконец, разгадал все, наслаждение, как высшая гармония, сначала оглушило меня, но скоро я пришел в себя и с той поры жил радостней, и гордость шептала мне: я — мужчина, существо, созданное так, чтобы однажды получить свою женщину. Я узнал тайну жизни, и это было равно тому, как если бы я что-то испытал. Мои желания не шли дальше, я довольствовался тем, что узнал. Что же до любовницы, то она для меня была существом демоническим, один волшебный звук этого слова приводил меня в безумный восторг. Это ради нее разоряли и завоевывали страны короли, для нее ткали индийские ковры, чеканили золото, шлифовали мрамор, потрясали мир. Она спит на атласных подушках, а рабы с опахалами из перьев берегут ее сон, слоны с грузом даров ждут ее пробуждения, паланкины медленно несут ее к берегам водоемов, она восседает на троне, в блеске и благоухании, недосягаемая для толпы, презирающей и боготворящей ее.
Загадка женщины незамужней, и потому еще более женственной, волновала и манила меня двойным соблазном: любовью и роскошью. Но больше всего я любил театр, мне нравилось там все, от шума в антрактах до коридоров, по которым я шел, волнуясь. Представление уже начиналось, когда я взбегал по лестнице — слышались музыка, говор, аплодисменты, — я входил в зал, усаживался, воздух там благоухал жарким ароматом нарядных женщин, фиалок, белых перчаток, вышитых платочков. Заполненные публикой галереи, гирлянды цветов и бриллиантов словно замирали, готовые внимать пению. На сцене была актриса, грудь ее волновалась, лились быстрые звуки, голос, повинуясь ритму, летел бурным мелодичным вихрем, под руладами вибрировало напряженное горло, словно лебединая шея под порывами ветра. Она простирала руки, вскрикивала, рыдала, метала молнии, взывала к чему-то с невыразимой страстью, и, когда возвращалась прежняя мелодия, казалось, голос этот вырывает из моей груди душу, чтоб она слилась с ним в страстном трепете.
Ей аплодировали, бросали цветы, и я, как в бреду, наслаждался обращенным к ней поклонением толпы, любовью всех и вожделением каждого. Тогда у меня и проснулось желание быть любимым любовью всепоглощающей и страшной, любовью принцессы или актрисы, что полнит душу гордостью и в одночасье делает равным богачам и сильным мира сего! Как прекрасна женщина, которой все рукоплещут, завидуют, о ней страстно грезят ночами, она является в ярком сиянии огней, блистательная и поющая, она живет в идеальном мире поэзии, для нее сотворенном! Для любимого у нее должна быть любовь необыкновенная, много прекрасней той, что льется волнами во все распахнутые, впитывающие ее сердца, должны быть песни, более нежные, ноты, более низкие, страстные, трепетные. Если б я мог приникнуть к устам, откуда льются эти небесные звуки, коснуться блестящих, искрящихся под жемчужной диадемой волос! Но театральная рампа представлялась мне границей иллюзии; за ней начинался мир любви и поэзии, страсти были там прекрасней и выразительней, леса и дворцы там рассеивались, как дым, сильфиды спускались с небес, все пело, все любило.
Вот о чем грезил я вечерами, когда в коридорах и рекреациях свистел ветер, в то время как другие бегали взапуски или играли в мяч, я бродил вдоль ограды, ворошил ногами опавшую липовую листву и развлекался, слушая ее шорох.
Вскоре желание любить захватило меня, я желал любви, мечтал о ней постоянно, мучительно и жадно, каждое мгновение был готов к радостному страданию. Несколько раз мне казалось, что это случилось, я думал о первой встречной женщине, показавшейся мне красивой, и говорил себе: «Это ее я люблю». Я хотел беречь воспоминания о ней, но они, вместо того чтобы расти, бледнели и сглаживались. Впрочем, я чувствовал, что принуждаю себя любить, заставляю сердце играть комедию, неспособную одурачить его, из-за этой низости я тосковал, почти раскаивался в любви, которой не было, а затем мечтал о другой, какой смог бы заполнить душу.
Наутро после бала или театра, после коротких каникул, я особенно часто выдумывал себе предмет страсти. Я представлял избранницу такой, как увидел ее: белое платье развевается в вальсе, она танцует в объятиях кавалера, он поддерживает ее, она улыбается ему, или же, облокотившись на бархатные перила ложи, она невозмутимо позволяет любоваться своим царственным профилем. Какое-то время я еще слышал шум контрданса, меня слепил блеск огней, потом все исчезало, таяло в однообразных грустных мечтах. Много раз я влюблялся ненадолго, любовь длилась неделю или месяц, а я хотел, чтобы она была вечной. Не помню, как я выдумывал эти влюбленности, не помню тех, на кого были обращены смутные желания. Наверно, это была потребность новых ощущений, подобная стремлению подняться на неведомую вершину.
Сердце взрослеет раньше тела, потому потребность любить у меня преобладала над потребностью обладать, не сладострастие было нужно мне, а любовь. Теперь я и представить не могу ту первую отроческую любовь, когда чувственность ничего не значит и что-то бесконечное переполняет душу. Она возникает на рубеже детства и юности, быстро проходит и так же быстро забывается.
Я столько раз встречал в стихах слово любовь и так часто твердил его, завораживая себя его нежностью, что шептал «Люблю, люблю!» звездам, мерцающим теплой ночью в синем небе, волнам, шепчущим на берегу, искрам солнца в каплях росы и был счастлив, горд, готов к благородному самопожертвованию. И когда идущая мимо женщина невзначай задевала меня или смотрела в лицо, я хотел любить в тысячу раз сильнее, страдать еще больше, чтобы удары бедного моего сердца разбили грудь.
Есть такой возраст, ты помнишь его, читатель, когда улыбаются без причины, словно воздух полон любви, душистый ветер проникает в сердце, жарко бьется в жилах кровь, искрится, словно вино в хрустальном бокале. Утром просыпаешься счастливей и богаче, взволнованней, чем был вчера; горячие флюиды бурлят в душе, чудесно растекаясь хмельным теплом. Деревья, волнуясь под ветром, мягко кивают кронами, шелестят, будто переговариваются друг с другом листья, скользят, открывая небо, облака, и луна улыбается своему отражению в реке. Гуляя вечерами, ты дышишь запахом скошенной травы, слушаешь кукушку в лесу, следишь за падающей звездой, и, не правда ли, на сердце становится ясней, в него свободней проникает ветер, свет и лазурь тихой дали, где земля в кротком поцелуе сливается с небом. О, как благоухают женские волосы, как нежна кожа на их руках, как глубоко трогают нас их взгляды!
Но вот уже позади первые детские восторги, волнующие воспоминания о снах прошедшей ночи; теперь я вступил в настоящую жизнь, обрел себя в бесконечной гармонии, и в сердце звучал восторженный гимн; я радостно наслаждался чарующим расцветом, и пробудившаяся чувственность добавилась к гордыне. Подобно Адаму, я очнулся наконец от долгой дремоты и увидел рядом существо, похожее на меня, но с отличиями, порождающими между нами головокружительное притяжение. Вместе с тем это новое создание дало мне новые ощущения, и от гордости кружилась голова, и солнце светило ярче, нежней был аромат цветов, милей и притягательней казалась тень.
Одновременно я чувствовал, как с каждым днем развивается мой ум, он жил единой жизнью с сердцем. Быть может, мысли мои были чувствами — в них был весь пыл страстей. Из глубины души била ключом тайная радость, наполняя мир благоуханием моего безграничного счастья. Я был готов узнать высшее наслаждение и нарочно не спешил — так медлят у дверей любовницы, наслаждаясь уверенной надеждой и думая: сейчас я обниму ее, она будет моей, это не сон.
Странное противоречие! Я избегал женщин и при них испытывал неземное удовольствие, делал вид, что не люблю их, но жил только ими, хотел бы слиться с их сущностью, смешаться с их прелестью. Их губы уже обещали мне иные, не материнские, поцелуи, мысленно я погружался в их волосы, склонялся на грудь, мечтал погибнуть, задохнуться в упоении; я хотел бы стать ожерельем, целующим шею женщины, пряжкой, кусающей плечо, одеждой, окутывающей тело. Под одеждой я ничего уже не различал, там была лишь одна бесконечная любовь, тут мысли мои путались.