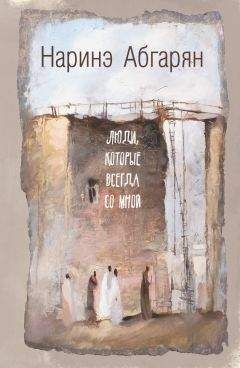Оноре Бальзак - Патология общественной жизни
Какой гуляка не видел вокруг большого парижского рынка между двумя часами пополуночи и пятью часами утра пестрый человеческий ковер — это завсегдатаи винокуров, чьим убогим лавчонкам далеко до дворцов, построенных в Лондоне для потребителей, отдающих себя на потребу, но где происходит то же самое. Это именно ковер. Лохмотья и лица сливаются между собой, и уже непонятно, где кончаются лохмотья и начинается плоть, где колпак, а где нос; часто лицо грязнее, чем рваное белье, которое торчит из-под верхнего платья; так выглядят эти невзрачные, с ввалившимися глазами, хилые, поседевшие, иссиня-бледные, искореженные водкой чудища. Эти люди плодят жалких выродков, которые либо гибнут, либо превращаются в жутких оборвышей — парижских беспризорников. Стойки винных лавок порождают тщедушные существа, которые составляют рабочий люд. Парижские девушки загублены злоупотреблением спиртными напитками.
Я был бы недостойным наблюдателем, если бы не уделил должного внимания результатам опьянения. Я должен был изучить наслаждения, которые прельщают народ и которые, скажем прямо, прельстили Шеридана, потом Байрона и tutti quanti[247]. Дело было нелегкое.
Как человек, пьющий воду и, быть может, закаленный многолетней привычкой к кофе, я ринулся в атаку на вино, но оно не оказывает на меня ни малейшего воздействия, сколько бы я ни выпил, в зависимости от вместимости моего желудка. Я дорогой сотрапезник. Зная эту мою особенность, один из моих друзей захотел сокрушить мою непорочность. Я никогда не курил. Он надеялся одержать победу благодаря этим первым дарам, принесенным на алтарь diis ignotis[248]. Итак, в 1822 году, в один из дней, когда в Итальянской опере давали спектакль, мой друг бросил мне вызов в надежде заставить меня забыть о музыке Россини и голосах Цинти, Левассера, Бордоньи и Паста и уложить на диван, который привлекал его взгляды еще во время десерта и на который он в конце концов улегся сам. Семнадцать пустых бутылок стали свидетелями его поражения. Он заставил меня выкурить две сигары[249], и, спускаясь по лестнице, я почувствовал воздействие табака. Мне показалось, будто ступени прогибаются у меня под ногами, но я держался довольно-таки прямо и благополучно добрался до кареты; серьезный и не расположенный к беседам, я отправился в театр. В карете я почувствовал себя как в пекле, открыл окошко, и тут свежий воздух окончательно «ударил мне в голову» — это выражение пьяниц. Перед глазами у меня все плыло. Ступени лестницы оперного театра еще сильнее прогибались у меня под ногами, чем ступени дома, где я был в гостях; но я без всяких приключений поднялся на балкон и занял свое место. Я не мог поручиться, что нахожусь в Париже среди ослепительного общества, ни туалетов, ни лиц которого я пока не различал. Душа моя была пьяна. То, что я слышал из увертюры к опере «La Gazza»[250], было фантастическими звуками, которые льются с небес, достигая слуха женщины, находящейся в молитвенном экстазе. Музыкальные фразы долетали до меня сквозь сверкающие облака, лишенные недостатков, свойственных творениям смертных, и полные божественного совершенства, запечатленного вдохновенным художником. Оркестр представлялся мне большим инструментом, где совершалась какая-то работа, но я не мог уловить ни ритма, ни механизма ее, смутно различая манжеты басов, взмахи смычков, золотые изгибы тромбонов, кларнеты, отдушины труб, но совсем не различая людей. Только одна или две напудренные неподвижные головы да два надутых гримасничающих лица тревожили меня. Я дремал.
«От этого господина идет винный дух», — тихо сказала дама, которая часто задевала своей шляпкой мою щеку и которую я, сам не замечая, также часто задевал щекой.
Признаюсь, я был уязвлен.
«Нет, сударыня, — возразил я, — это дух музыки». Я вышел, держась подчеркнуто прямо, с холодным спокойствием человека, которого не ценят, и потому он удаляется, вселяя в недоброжелателей опасение, что они травят непризнанного гения. Дабы доказать этой даме, что я не имею привычки выпивать и исходящий от меня запах — не более чем досадное недоразумение, совершенно чуждое моим нравам, я вознамерился отправиться в ложу госпожи герцогини де... (сохраним ее имя в тайне), чью прелестную, утопающую в перьях и кружевах головку я завидел издали и так удивился ее немыслимому головному убору, что желание проверить, действительно ли все это сооружение находится у нее на голове или это какой-то обман зрения, получившего на несколько часов особый дар видеть все в причудливом свете, неудержимо повлекло меня к ней.
«Когда я буду там, — подумал я, — подле элегантной знатной дамы и ее жеманной и притворно добродетельной подруги, никому и в голову не придет заподозрить меня в том, что я под хмельком; видя меня в обществе столь достойных дам, все примут меня за важную особу». Но я все еще блуждал по нескончаемым коридорам Итальянской оперы в поисках этой проклятой ложи, когда спектакль закончился и толпа, хлынувшая к выходу, прижала меня к стене. Этот вечер, несомненно, был одним из самых поэтических в моей жизни. Я никогда не видел столько перьев, столько кружев, столько красивых женщин, столько окошек, через которые любопытные и воздыхатели заглядывают в ложу. Я никогда не обнаруживал столько энергии, никогда не проявлял столько характера, я бы даже сказал, упрямства, если бы не уважение, с каким надо относиться к самому себе. Стойкость голландского короля Вильгельма[251] в бельгийском вопросе не может сравниться с упорством, какое я выказывал, поднимаясь на цыпочки и сохраняя на лице приветливую улыбку. Однако порой меня охватывали приступы ярости, в иные мгновения на глазах у меня выступали слезы. Эта слабость ставит меня ниже голландского короля. Кроме того, меня терзали ужасные подозрения, когда я представлял себе, что эта дама может обо мне подумать, если не увидит меня в обществе герцогини и ее подруги; но я утешался мыслью о презрении ко всему роду человеческому. Тем не менее, я был неправ. В тот вечер в Итальянской опере собралась славная компания. Все были со мной весьма предупредительны и старательно уступали мне дорогу. Наконец одна очень красивая дама, выходя, взяла меня под руку. Такой честью я обязан был Россини, сказавшему мне несколько лестных слов, которых я не помню, но которые, верно, были замечательно остроумны: он такой же превосходный собеседник, как и музыкант. По-моему, эта дама была герцогиня, а может быть, и капельдинерша. Воспоминание мое очень смутно, и я думаю, что это скорее была капельдинерша, чем герцогиня. Однако у нее были перья и кружева. Опять перья и опять кружева! Короче говоря, я оказался в своей карете; кроме всего прочего, этому способствовало то, что мой кучер находился в столь же удручающем состоянии, что и я, и уснул в одиночестве на площади перед театром. Шел проливной дождь, но я не помню, чтобы на меня упала хоть капля. Впервые в жизни я вкусил одно из самых острых, самых фантастических удовольствий, я познал неописуемый восторг, неземное наслаждение, которое испытываешь от езды по Парижу в половине двенадцатого ночи, мчась среди уличных фонарей, видя, как мелькают мириады магазинов, огней, вывесок, лиц, кучек людей, женщин под зонтиками, ярко освещенных перекрестков, темных площадей, замечая сквозь струи ливня тысячу вещей, которые, кажется, где-то видел днем, но на самом деле не видел никогда. И снова перья, и снова кружева! Даже в кондитерских!
В тот день я хорошо понял, в чем прелесть опьянения. Опьянение набрасывает покров на реальную жизнь, заглушает сознание тягот и горестей, позволяет сбросить груз мыслей. Мне стало понятно, чем оно привлекало великих гениев и почему народ предается пьянству. Вместо того чтобы возбуждать мозг, вино его одурманивает. Будучи далеко от того, чтобы вызывать приток силы от желудка к голове, вино после первой же выпитой бутылки притупляет вкусовые ощущения, каналы пресыщаются, вкус отбивается, и пьяница уже не может различить качество поданных напитков. Алкоголь проник в организм и частично перешел в кровь. Итак, запомните следующую аксиому:
IV. Опьянение — кратковременное отравление.
Постоянно возвращаясь к этой отраве, пьяница в конце концов изменяет природу своей крови, он замедляет ее ток, разрушая ее основные элементы или портя их, и они приходят в такое расстройство, что большинство пьяниц теряет способность к продолжению рода, либо их испорченная кровь приводит к тому, что у них рождаются дети, больные водянкой мозга. Не забудьте, что на следующий день после оргии, а часто уже в конце ее, пьяницу мучает смертельная жажда. Эта жажда, совершенно очевидно происходящая от истощения желудочных соков и слюноотделительных желез, может служить доказательством справедливости наших выводов.
§ III. О кофе
Относительно этого вещества сведения, сообщаемые Брийа-Савареном, далеко не полны[252]. Я могу кое-что добавить к тому, что он говорит о кофе, ибо пью этот напиток очень часто и могу наблюдать его действие в широком масштабе. Кофе — внутренний жар. Многие люди считают, что кофе придает остроты уму, но все могли убедиться, что зануды, выпив его, становятся еще занудливее. Наконец, хотя бакалейные лавки открыты в Париже до полуночи, иные авторы не становятся от этого остроумнее.