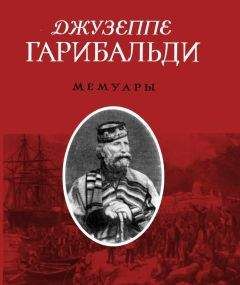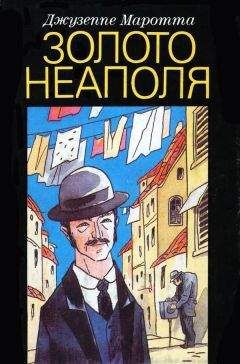Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
Дон Фабрицио всегда любил дона Чиччьо, но то было чувство, порожденное состраданием, какое вызывает человек, который в молодости посвятил себя искусству, а в преклонных годах, убедившись в отсутствии таланта, продолжает все ту же деятельность опускаясь все ниже, спрятав в глубь кармана свои поблекшие мечты. Сострадание вызывала и его исполненная достоинства бедность. Теперь же он испытывал нечто похожее на восхищение, и чей-то голое, подымаясь из глубин его высокомерного сознания, спрашивал: не случилось ли так, что дон Чиччьо повел себя благороднее князя Салина? И не совершили ли Седара, все эти Седара, начиная с того маленького, который насиловал арифметику в Доннафугате, кончая теми, что покрупнее и находились в Палермо и Турине, не совершили ли они преступления, удушив совесть таких людей? Тогда дон Фабрицио не мог этого знать, но добрая доля равнодушия и примиренчества, за которые в последующие десятилетия клеймили людей итальянского Юга, истоком своим имела именно это нелепое уничтожение первого проявления свободы, доселе никогда этими людьми не виданной.
Дон Чиччьо отвел душу. Теперь столь редкое и подлинное воплощение «сурового благородства» уступило у него место другой, гораздо более распространенной и не менее естественной разновидности снобизма. Ведь Тумео принадлежал к зоологической породе «пассивных снобов», которые особенно теперь подвергаются несправедливому осуждению. Конечно, в Сицилии 1860 года слово «сноб» было неведомо; но, подобно тому как и до Коха существовали туберкулезные больные, и в то допотопное время жили люди, для которых привычка подчиняться и подражать тем, кого они полагали стоящими выше себя в общественном отношении, и особенно боязнь причинить им какое-либо огорчение стали высшим законом жизни; сноб на самом деле прямая противоположность завистнику. Тогда снобы представали под различными именами: их называли людьми «преданными», «глубоко привязанными», «верными». Жили они счастливо, потому что мимолетной улыбки на Лице аристократа хватало, чтоб наполнить солнцем их день, а недостатка в этих живительных милостях не было, они расточались чаще, нежели сегодня, хотя бы по той причине, что само появление этих людей сопровождалось уже упомянутыми нами ласкательными прилагательными.
Итак, но причине своей снобистской сердечности дон Чиччьо опасался, не огорчил ли он дона Фабрицио; это вынуждало его к поспешным поискам средства, которое могло бы разогнать тучи, скопившиеся, как он полагал, по его вине над олимпийским челом князя; наиболее спасительным средством в этот момент было предложение снова заняться охотой, что и было сделано. Несколько несчастных бекасов и еще один кролик, застигнутые врасплох во время полуденного сна, пади под выстрелами, которые в тот день отличались особенной точностью и беспощадностью, потому что как Салина, так и Тумео с удовольствием отождествляли несчастных животных с доном Калоджеро Седара. Однако ни оглушительная пальба, ни клочья шерсти и перьев, которые после выстрелов взлетали, сверкая на солнце, сегодня не могли успокоить князя; по мере того, как проходили часы и близилось возвращение в Доннафугату, чувство озабоченности, досады и унижения от предстоящего и неизбежного разговора с плебеем мэром все более угнетало князя; ему не помогло даже и то, что он назвал двух бекасов и кролика «доном Калоджеро»; хоть он и решил проглотить эту отвратительную жабу, но все же чувствовал потребность подучить о противнике более полные сведения, или, точней, позондировать, как откликнется общественное мнение на шаг, который он намеревался предпринять. Вот почему дон Чиччьо вторично в этот день был застигнут врасплох обращенным к нему в упор вопросом: «Дон Чиччьо, послушайте-ка меня, вы знаете стольких людей в деревне, скажите, что же на самом деле думают в Доннафугате о доне Калоджеро?»
По правде говоря, Тумео казалось, что он уже достаточно ясно изложил свое мнение о мэре; в таком духе он и собирался было ответить, но ему живо припомнились шепотком передававшиеся слухи насчет того, какими умильными глазками дон Танкреди разглядывал Анджелику, и он внезапно испытал чувство досады, вызванное тем, что увлекся своими обвинениями, которые, разумеется, не могут прийтись по вкусу князю, раз все сказанное верно; меж тем другая частица его мозга радовалась: ведь он не сказал, ничего определенно плохого по адресу Анджелики — легкая боль, которую он еще ощущал в укушенном им указательном пальце, теперь воспринималась как действия целительного бальзама.
— В конце концов, ваше превосходительство, дон Калоджеро Седара не хуже многих тех, кто пошел в гору за эти последние месяцы.
Похвала звучала умеренно, но тем не менее позволила дону Фабрицио проявить настойчивость.
— Видите ли, дон Чиччьо, мне очень важно знать правду о доне Калоджеро и его семье.
— Правда, ваше превосходительство, в том, что дон Калоджеро очень богат и вдобавок очень влиятелен; и в том, что он скуп (когда дочь их была в колледже, он вместе с женой съедал на завтрак яичницу из одного яйца), но, когда нужно, он умеет пустить пыль в глаза, а поскольку каждый истраченный грош в конце концов попадает в чей-нибудь карман, вот и случилось, что теперь от него зависят многие; нужно, однако, сказать, что дружбу он ценить умеет: за свою землю семь потов сгонит, и крестьянам приходится с голоду подыхать, чтоб внести аренду, но с месяц тому назад он одолжил пятьдесят унций Пасквале Триппи, который помог ему во время десанта, и, верите ли, одолжил без процентов, а это самое великое чудо, сотворенное с той поры, как святая Розалия прекратила чуму в Палермо. Впрочем, он умен, как черт: вы, ваше превосходительство, должны были видеть его в прошлый апрель или май, когда он, как летучая мышь, шнырял по всей округе в повозке, верхом на муле или пешком в любую погоду, а там, где он побывал, возникали тайные кружки и готовился прием для тех, кого поджидали. Божья кара, ваше превосходительство, кара господня! А ведь это лишь начало карьеры дона Калоджеро; через несколько месяцев он станет депутатом парламента в Турине, а через несколько лет, когда поступит в распродажу церковное имущество, он за сущие гроши приобретет поместья в Марка и Фондакелло и станет самым крупным землевладельцем в провинции. Вот каков дон Калоджеро, ваше превосходительство, — новый человек, каким ему полагается быть; жаль только, что он должен быть таким.
Дон Фабрицио вспомнил о своей беседе с падре Пирроне несколько месяцев тому назад в залитой солнечным светом обсерватории. Осуществлялось предсказанное иезуитом? Но разве неправильна тактика включения в новое движение, чтобы хоть отчасти обратить его на пользу отдельных представителей своего класса? Досада от неизбежного разговора с доном Калоджеро ощущалась уже не столь остро.
— Ну, а другие члены его семьи, каковы на самом деле они, дон Чиччьо?
— Ваше превосходительство, жену дона Калоджеро никто, кроме меня, не видел годами. Она выходит из дому лишь в церковь, к первой мессе, которая бывает в пять утра, когда еще никого нет. Эту мессу служат без органа, но я однажды нарочно поднялся на рассвете, чтобы взглянуть на нее поближе. Донна Бастиана вошла с горничной, я спрятался за исповедальней и не мог разглядеть хорошо, но под конец службы жара одолела бедную женщину, и она откинула черную вуаль. Слово чести, ваше превосходительство, жена его прекрасна, как солнце, и нельзя упрекать дона Калоджеро, если этот скаред хочет держать ее подальше от людских глаз. Но даже из домов, которые хорошо оберегают, доносятся вести: прислуга всегда болтает — и вот известно, что донна Бастиана не человек, а так, вроде животного: читать, писать не умеет, времени на часах определить не может, говорить толком не научилась. Не женщина — красивая кобылица, груба и страстна, только и всего. Даже дочь свою не любит, только и пригодна для постели.
Дон Чиччьо, ученик королев и спутник князя, весьма дорожил своими простыми манерами, которые считал совершенными. Теперь он улыбался, довольный тем, что изобрел способ отомстить тому, кто растоптал его самолюбие.
— Впрочем, иначе и быть не могло. Знаете, ваше превосходительство, чья дочь донна Бастиана?
Повернувшись, он поднялся на носках и показал пальцем на несколько видневшихся вдали хижин, которые, казалось, скользили вниз с холма к обрыву и лишь с трудом удерживались жалкой колокольней.
— Донна Бастиана — дочь одного из ваших испольщиков из Рунчи. Пеппе Джунта его звали, но был он столь грязен и дик, что его прозвали Пеппе Дерьмо, простите за грубое слово, ваше превосходительство.
Довольный своей речью, он обернул вокруг пальца ухо Терезины.
— Через два года после того, как дон Калоджеро бежал с Бастианой, старика нашли мертвым на трене, ведущей к Рампинцери; двенадцать охотничьих пуль выпустили бедняге в спину; дону Калоджеро во всем удача; а старик действительно наглел и только мешал ему.