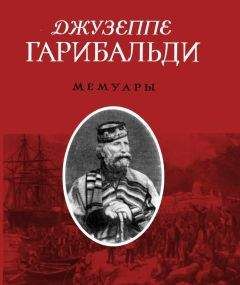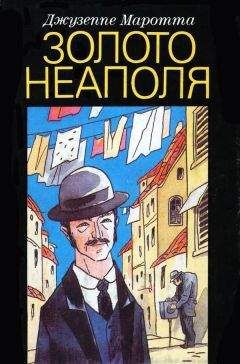Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
По окончании все были приглашены «выпить по рюмочке» наверху, в кабинете мэра, но падре Пирроне и дон Онофрио, выставив убедительные доводы (воздержание от вина у первого и боль в животе у второго), остались внизу. Дон Фабрицио вынужден был в одиночестве атаковать это угощение.
За письменным столом мэра сверкал портрет Гарибальди и (уже появившийся) портрет короля Виктора Эммануила, к счастью висевший справа от Гарибальди. Гарибальди — красивый мужчина, король необыкновенно безобразен, но на портретах их роднила пышная шевелюра, почти скрывавшая лица.
На низеньком столике стояло блюдо с засохшим, приобретшим траурный цвет под воздействием времени и мух; печеньем и дюжина приземистых, до краев наполненных рюмок, четыре с красной, четыре с зеленой, четыре с белой настойкой, в самом центре блюда. Этот наивный символ нового флага вызвал усмешку у князя и смягчил угрызения совести. Он выбрал рюмку белой настойки, считая ее более удобоваримой, а не из чувства запоздалого почтения к бурбонскому знамени, как затем говорили. Впрочем, все три сорта были одинаково переслащены, липки и противны. У присутствующих хватило такта не предлагать тостов. Большая радость, как сказал дон Калоджеро, всегда нема.
Дону Фабрицио показали письмо властей из Агридженто, в котором трудолюбивых граждан Доннафугаты извещали о предоставлении кредита в две тысячи лир для проведения канализации; это строительство, как заверил мэр, должно было завершиться в тысяча восемьсот шестьдесят первом году, причем дон Калоджеро не знал, конечно, что впадает в одну из тех ошибок, механику которых должен был объяснить Фрейд несколько десятилетий спустя. На том собравшиеся разошлись.
До захода солнца несколько женщин легкого поведения (они были и в Доннафугате, однако каждая работала за свой страх и риск) появились на площади, предварительно украсив себе волосы трехцветными ленточками, дабы выразить протест против того, что женщинам не дали право голосовать; поднятые на смех даже самыми горячими либералами, женщины вынуждены были ретироваться, что, впрочем, не помешало газете «Джорнале ди Тринакриа» четыре дня спустя сообщить палермцам, что в Доннафугате «некоторые любезные представительницы прекрасного пола пожелали выразить свою непоколебимую веру в сияющие судьбы любимейшей родины и устроили манифестацию на площади, встреченную всеобщим одобрением тамошнего патриотического населения».
Затем избирательный участок закрыли, и счетчики принялись за работу. Когда настал вечер, распахнулись двери центрального балкона мэрии, и дон Калоджеро появился в панцире из трехцветной ленты и со всеми регалиями; по бокам его возникли двое служителей с зажженными канделябрами, которые, впрочем, тотчас же безжалостно погасил ветер. Мэр сообщил невидимой во мраке толпе, что в Доннафугате плебисцит дал следующие результаты: внесенных в списки — пятьсот пятнадцать; в голосовании участвовало пятьсот двенадцать, «за» подано пятьсот двенадцать голосов, «против» — ни одного.
Из темной глубины площади донеслись аплодисменты и возгласы «Да здравствует!»
На балкончике своего дома Анджелика вместе со своей мрачной горничной неистово хлопала в ладоши, показывая красивые хищные руки; с балкона мэрии произносились речи; прилагательные, перегруженные окончаниями превосходной степени и сдвоенными согласными, в темноте так и отскакивали от одной стены дома к другой; под треск хлопушек были направлены послания королю (на этот раз новому) и Генералу; несколько трехцветных ракет взвились над деревней и скрылись в черном небе без звезд. К восьми все кончилось, осталась лишь тьма, все та же, что и каждый вечер, та же, что всегда.
На вершине холма Монте Морко воздух прозрачно ясен, здесь струится целый океан света, но мрак той ночи плотной стеной окутывал дона Фабрицио. Неопределенность этой тревоги делала его переживания еще более мучительными; тревога эта не была порождена теми большими проблемами, начало решению которых положил плебисцит: интересы королевства Обеих Сицилий, интересы собственного класса, его личные интересы хоть и понесли в результате этих событий ущерб, но еще сохраняли свою жизненность. Учитывая обстоятельства, нельзя было требовать большего; его тревога не носила политического характера, она уходила своими корнями глубже, в ту область, которую мы назвали бы иррациональной, ибо она погребена под курганами нашего непонимания собственной природы.
В тот хмурый вечер в Доннафугате родилась Италия, она родилась именно там, в этой позабытой всеми деревне, она родилась в ленивом Палермо, она родилась в дни волнений в Неаполе; но, должно быть, при родах ее присутствовала злая фея, имя которой неизвестно; во всяком случае, она родилась такой, и следовало надеяться, что такой и останется: любая другая форма была бы куда хуже. Согласен. И все же это настойчивое беспокойство что-то означает; князь чувствовал, что за этим слишком сухим перечнем цифр, так же как и за слишком пышными речами, стояла чья-то смерть, и одному господу известно, у какого деревенского порога, в каких извилинах народной совести она скрывалась.
Свежий ветерок развеял сонливость дона Чиччьо, внушительный вид князя рассеял его опасения; теперь на поверхности его совести осталась лишь досада, конечно бесполезная, но не лишенная благородства. Он говорил на диалекте, стоя и жестикулируя. Жалкий шут, который до смешного прав.
— Я, ваше превосходительство, голосовал против. Против, сто раз против. Эчаю, вы мне говорили: необходимость, единство, долг. Пусть вы правы, я в политике слаб. Пусть этим другие занимаются. Но бедный и жалкий дон Чиччьо в рваных штанах (и он хлопал себя по ягодицам, показывая аккуратные заплаты на своих охотничьих брюках) — прежде всего благородный человек. И он не забывает о сделанном ему добре. Эти свиньи из мэрии проглотили мой голос, разжевали его и вместе с испражнениями выпустили наружу в том виде, какой их больше устраивал. Я сказал «черное», а они меня заставляют говорить «белое»! В первый раз смог я сказать, что думаю, так этот кровопийца Седара меня изничтожил. Так сделал, словно меня и на свете нет, словно я ничто, круглый нуль. Но я Франческо Тумео Ла Манна, сын покойного Леонардо, органист собора Богоматери в Доннафугате, я в тысячу раз выше его и даже посвятил ему мазурку, когда у него родилась эта дочь (и тут он укусил себя за палец, чтоб не сказать лишнего)… эта кривляка.
В эту минуту покой вернулся к дону Фабрицио, который наконец разгадал загадку; теперь он знал, кто убит в Доннафугате и в сотне других мест в ту ночь, когда дул гнилой ветер: убита новорожденная, ее звали Добропорядочность, убито именно то создание, о котором более всего следовало заботиться, ибо его здоровый рост оправдал бы другие глупые и варварские поступки. Голос дона Чиччьо, поданный «против», еще пятьдесят таких голосов в Доннафугате, даже сто тысяч «нет» во всем королевстве не только не изменили бы итог, но придали бы ему большую значительность, и тогда не было бы нужды калечить чьи-то души.
Шесть месяцев тому назад раздавался жесткий, властный, деспотический окрик: «Делай, как я говорю, не то возьму палку!»
Теперь уже создалось впечатление, что на смену угрозе полились мягкие речи ростовщика: «Но раз ты сам подписал? Не видишь разве? А все так ясно. Ты должен делать, как мы говорим, взгляни-ка на вексель — твоя воля равнозначна нашей».
Голос дона Чиччьо еще гремел.
— Для вас, синьоров, это дело другое. Можно не проявить благодарности еще за одно пожалованное поместье, но быть признательным за кусок хлеба — это долг. Опять же другое дело для дельцов вроде Седара, для них выгода — закон природы. Для нас, людей маленьких, все по-иному. Вы знаете, ваше превосходительство, мой покойный отец был хранителем охоты в королевском замке Сант Онофрио еще при Фердинанде IV, когда здесь были англичане. Жилось тогда тяжело, но зеленый придворный мундир и серебряная бляха давали власть. Королева Изабелла, испанка, в ту пору герцогиня Калабрии, послала меня учиться и позволила мне стать тем, чем я стал, — органистом собора Богоматери, заслужившим благорасположение вашего превосходительства. В самые тяжелые годы, когда мать обращалась за помощью ко двору, пять унций поступали столь же надежно, как к человеку приходит смерть: ведь нас любили в Неаполе, знали, что мы люди порядочные, верноподданные; король, когда приезжал, хлопал моего отца по плечу. «Дон Лиона, хотел бы я, чтоб все были, как вы, верной поддержкой трону и моей особе». Затем адъютант раздавал золотые монеты. Теперь они называют это милостыней, но то было великодушие настоящих королей; говорят так, лишь бы самим ничего не давать, но то была справедливая награда за преданность. Если сегодня на меня с небес глянут святые короли и прекрасные королевы, что я скажу им? «Сын дона Леонардо Тумео предал вас!» Хорошо еще, что в раю знают правду. Понимаю, ваше превосходительство, понимаю, такие люди, как вы, мне объяснили — эти поступки королевских особ ничего не значат, так им полагается по роду их занятий. Пусть так; ведь так оно, пожалуй, и есть. Но пять унций — это факт, а с пятью унциями можно было зиму протянуть. Теперь же, когда я смог уплатить свой долг, мне говорят: «Нет, ты вообще не существуешь». Мое «нет» становится «да». Был я верным подданным, а стал паршивым бурбонцем. Теперь они все за короля савойского, а для меня савойцы — тьфу! Я их кофеем запиваю! (Игра слов: в Италии есть «савойский» сорт печенья) — И, сделав вид, что он держит меж большим и указательным пальцем печенье, он размачивал его в воображаемой чашке кофе.