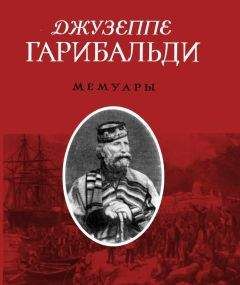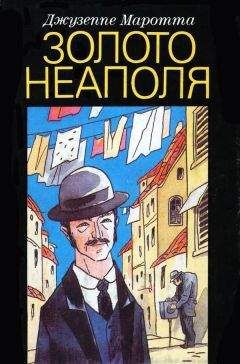Джузеппе Томази ди Лампедуза - Леопард
Там его стоя поджидал дон Калоджеро, маленький, худенький, плохо выбритый; он бы и впрямь походил на шакалишку, если бы не его глазки, в которых так и светился хитрый ум; но так как ум дона Калоджеро был направлен лишь к целям материальным в противоположность князю, который полагал, что стремится к достижению целей абстрактных, все считали его человеком ловким и коварным. Не обладая способностью выбрать костюм соответственно обстоятельствам — врожденное качество князя, — мэр счел необходимым одеться чуть ли не в траур; на нем было почти столько же черного цвета, сколько на падре Пирроне, который сидел в углу с отсутствующим, каменным выражением на лице, какое появляется у священников, когда они хотят показать, что не желают влиять на чужие решения; в то же время вся физиономия мэра свидетельствовала о столь жадном ожидании, что на него мучительно было глядеть.
Немедленно начался обмен малозначительными колкостями, который предшествует большим словесным битвам. И все же именно дон Калоджеро первым перешел к общей атаке.
— Ваше превосходительство, — спросил он, — вы получили хорошие известия от дона Танкреди?
В те времена в небольших деревнях мэр имел возможность полуофициально контролировать переписку, и, быть может, его насторожила необычно изящная бумага, на которой было написано письмо Танкреди.
Князь пришел в раздражение, как только его осенила эта мысль.
— Нет, дон Калоджеро, нет. Мой племянник сошел с ума…
Но есть Бог, покровительствующий князьям. Имя этого Бога — Благовоспитанность. Он частенько вмешивается, чтоб уберечь леопардов от неразумных шагов. Однако ему за это приходится платить большую дань. Подобно тому как Паллада вмешалась, чтоб обуздать несдержанность Одиссея, Бог Благовоспитанности явился перед доном Фабрицио, чтоб остановить его на краю пропасти; князю за свое опасение, пришлось заплатить тем, что он единственный раз в жизни назвал вещи своими именами. И он с необыкновенной естественностью, без всякой задержки закончил фразу:
— …сошел с ума от любви к вашей дочери, дон Калоджеро. И написал мне об этом вчера.
Мэр сохранял необыкновенное равнодушие. Он едва улыбнулся и принялся старательно разглядывать ленту на собственной шляпе; падре Пирроне возвел очи к потолку, словно являлся знатоком строительного дела, которому надлежало определить его прочность. Князь почувствовал себя скверно; это совместное молчание лишало его даже того мелкого удовлетворения, которое ему доставило бы удивление собеседников.
— Я знал об этом, ваше превосходительство, знал. Во вторник, двадцать пятого сентября, накануне отъезда дона Танкреди, видели, как они целовались. В вашем саду у фонтана. Лавровая изгородь не так уж плотна, как думают. Я месяц ждал решительного шага со стороны вашего племянника и собирался спросить у вашего превосходительства, каковы его намерения.
Рой больно жалящих ос вихрем налетел на дона Фабрицио.
Прежде всего им овладело чувство ревности, естественное у мужчины, еще не превратившегося в развалину: Танкреди вкусил аромат сливок и ягод, который ему никогда не дано будет познать. Затем пришел черед социального унижения: он из носителя радостной вести превратился в обвиняемого. Но была тут и личная досада человека, который полагал, что ему все подвластно, а на самом деле убедился, что многое происходит без его ведома.
— Дон Калоджеро, не будем подтасовывать карты во время игры. Вспомните, это я велел вас позвать. Хотел сообщить вам о письме племянника, полученном вчера. Он признается в своей страсти к вашей дочери, страсти (тут князь несколько замешкался, потому что порой бывает нелегко лгать, когда тебя буравит взгляд такого человека, как мэр) …о силе которой я до сих пор не знал; в заключение он поручает мне просить у вас руки синьорины Анджелики.
Дон Калоджеро продолжал оставаться невозмутимым, падре Пирроне из эксперта по жилищному строительству превратился в мусульманского мудреца; скрестив четыре пальца правой руки с четырьмя пальцами левой, он принялся вращать оставшиеся таким образом свободными большие пальцы, то и дело меняя направление их движения с подлинной хореографической фантазией. Молчание затянулось, и князь потерял терпение.
— Теперь, дон Калоджеро, я жду, чтобы вы сообщили мне о своих намерениях.
Мэр, который не сводил глаз с оранжевой бахромы на кресле князя, на мгновение прикрыл глаза правой ладонью, затем встал; теперь в его взгляде светилось чистосердечие и искреннее удивление, казалось, что глаза не его, что в этот миг он их подменил.
— Простите, князь (столь внезапное опущение «превосходительства» дало дону Фабрицио понять, что дело шло к счастливой развязке). Прекрасное, но столь неожиданное известие лишило меня дара речи. Видите ли, я современный отец и смогу сообщить вам окончательный ответ, лишь получив согласие нашего ангела, который принес утешение в наш дом. Но я умею пользоваться священным правом отца и знаю, что чувства дона Танкреди, который всем нам оказывает честь, будут встречены искренней взаимностью.
Дон Фабрицио почувствовал неподдельное облегчение: жаба была проглочена, разжеванная голова и кишки спускались по глотке, оставалось еще разжевать лапки, но это уже пустяк по сравнению с остальным — главное сделано. После того как князь насладился этим чувством освобождения, в нем заговорила привязанность к Танкреди — он представил себе, как засверкают узкие голубые глаза, читая торжественный ответ, представил, или, лучше сказать, припомнил, первые месяцы после брака, совершенного по любви, когда безумие и акробатическая изощренность чувств благословляются и прикрываются всем сонмом небесных ангелов, доброжелательных, хотя и полных удивления. Но он глядел еще дальше и видел обеспеченную жизнь Танкреди, которая позволит развиться его талантам — без денег у них были бы подрезаны крылья.
Князь поднялся, сделал шаг в сторону ошеломленного дона Калоджеро, поднял его с кресла и прижал к груди; короткие ноги мэра при этом повисли в воздухе. В этой комнате глухой сицилийской провинции была в точности воспроизведена японская гравюра, изображающая огромный фиолетового цвета ирис, на лепестке которого повисла большая волосатая муха. Когда ноги дона Калоджеро снова коснулись пола, дон, Фабрицио подумал: «Дальше так продолжаться не может, придется подарить ему пару английских бритв…»
Падре Пирроне прекратил вихревые движения своих больших пальцев, встал и пожал руку князю.
— Ваше превосходительство, да снизойдет господня благодать на этот брак. Ваша радость стала моей.
Дону Калоджеро он подал лишь кончики пальцев, не сказав ни слова. Затем косточкой пальца обследовал висевший на стене барометр — давление падало, все предвещало дурную погоду. Иезуит снова уселся на свое место, открыл молитвенник.
— Дон Калоджеро, — сказал князь, — в основе всего лежит любовь этих двух молодых людей, единственный фундамент их будущего счастья. На этом можем поставить точку — нам это известно. Но мы с вами люди пожилые, люди пожившие, в вам приходится думать и о многом прочем. Бесполезно говорить вам, насколько знатен род Фальконери: прибыв в Сицилию с Карлом Анжуйским, он процветал и при королях арагонских, испанцах и королях бурбонских (если мне позволено назвать их в вашем присутствия), и я уверен, что этот род будет благоденствовать и при новой континентальной династии. Дай-то Бог! (У князя никогда нельзя было отличить иронию от оговорки.) Фальконери были пэрами королевства, испанскими грандами, кавалерами ордена Сант-Яго, им достаточно палец поднять, чтоб стать кавалерами мальтийского ордена; если им это только взбредет в голову, можете не сомневаться, на виа Кондотти для них испекут грамоту быстрей сдобной булочки, но крайней мере так обстояло дело до сего дня. Этот низкий вымысел был совершенно напрасен, поскольку дон Калоджеро не имел ни малейшего понятия о статуте иерусалимского ордена св. Джованни.) Я убежден, что редкая красота вашей дочери еще больше украсит старинное древо Фальконери и что добродетелью своей ваша дочь сможет состязаться со святыми княгинями этого рода, последняя из которых, моя покойная сестра, разумеется, пришлет с небес свое благословение новобрачным.
И дон Фабрицио снова растрогался, вспомнив о своей дорогой Джулии, вся загубленная жизнь которой стала вечной жертвой, принесенной во имя бешеных выходок отца Танкреди.
— Что до мальчика, вы его знаете, а если б не знали, то я здесь поручусь вам за него во всем; в нем заложены тонны добра, и не только я один так думаю, не правда ли, падре Пирроне?
Почтенный иезуит, оторванный от своего чтения, внезапно вновь предстал перед мучительной дилеммой. Он был духовником Танкреди и знал о многих его прегрешениях; не было среди них, разумеется, ни одного поистине тяжкого греха, но каждый из них мог, во всяком случае, на несколько центнеров уменьшить вес той кучи добродетелей, о которой шла речь, кроме того, все его грехи (и в данном случае об этом уместно вспомнить) служили надежной гарантией супружеской неверности. Само собой разумеется, что это не могло быть высказано как из светского приличия, так и по причинам, связанным с тайной исповеди. Падре Пирроне любил Танкреди и никогда бы не произнес ни слова, которое могло бы хоть как-то помешать или несколько, омрачить этот брак, который он в глубине души не одобрял. Иезуит нашел прибежище в Осторожности, наиболее гибкой из всех добродетелей человека.