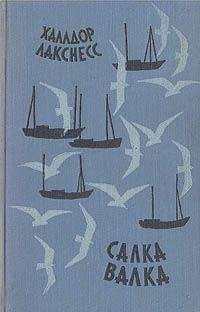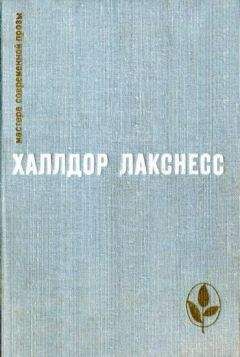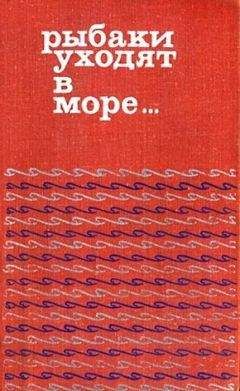Халлдор Лакснесс - Свет мира
Ему кажется, что в действительности они уже поженились, писал он, поженились каким-то таинственным и сверхъестественным образом, словно сам Господь обвенчал их узами духа и истины на все дни, недаром их знакомство было связано с венчанием, и, чтобы скрепить их союз, он посылает ей стихи, написанные им на мелодию свадебного псалма, соединившего их сердца.
О как печально в кромешной тьме
Хранить надежды, мечты, стремленья.
Душа живая здесь как в тюрьме,
И всем здесь чуждо твое смиренье.
Как дни унылы!
Мы всем постылы,
Слабеют силы,
И мрак могилы
В моих глазах,
В моих глазах.
Но ты, о дева, ты мне всегда
Во тьме сияешь звездой небесной,
Меня ведешь ты, моя звезда,
Через вершины и через бездны.
Душе не надо
Иного клада,
Чем ты, отрада,
Цветок из сада
На небесах,
На небесах.
Скальд надписал конверт, заклеил его и попросил передать с кем-нибудь, кто поедет через горы. Душа его радовалась, когда он написал это письмо, ведь самое лучшее лекарство — это знать, что ты соединен узами с любящим сердцем. Ночью он видел приятные сны, пробуждаясь от них, он сразу же вспоминал свою возлюбленную, и утром его первая мысль была о ней.
Этот молодой человек был убежден, что письма святы и неприкосновенны, независимо от того, кем и кому они написаны. Но он глубоко заблуждался в этом, так же как и во многом другом. Утром на чердак явилась матушка Камарилла с его письмом в руке, и он увидел, что оно
было вскрыто.
— Ты что, вздумал писать письма? — спросила она.
— Только одно! — ответил он.
— Ах ты жалкая приходская тварь!
— Я всегда считал, что у меня есть душа, хоть я и нахожусь на содержании прихода.
— А я не желаю иметь под своей крышей такие души! Учти, это твое последнее письмо в моем доме. Ты сватаешься к женщине, которая катается по земле с пеной на морде, ты лез к моей дочери в день святой Пасхи, когда все уехали в храм Господень, ты продолжаешь строчить свои гнусные стихи, обзывая в них по-всякому нас, хозяев этого хутора; так вот, я хочу, чтобы ты знал раз и навсегда: больше я не желаю лелеять на своей груди такую гадину. Я уже устала лишать тебя ужина в наказание за твою непристойную писанину, клевету и богохульство, да это, я вижу, и не помогает. Но, поскольку ты позволяешь себе распутничать в моем доме на глазах у всех, не говоря уже о том, что сравниваешь меня и мой дом с кромешной тьмой да еще отправляешь эту брехню в чужой приход, тут я уж тебе прямо скажу: хватит! Впредь я отказываюсь нести за тебя ответственность и перед пастором и перед Свидинсвикским приходом.
С этими словами матушка Камарилла разорвала письмо на мелкие клочки у него на глазах и выбросила их в чердачный лаз. После этого она удалилась.
Он остался один. Так безжалостно еще никогда ни один человек не касался самых сокровенных уголков его души. Весь его духовный мир, его самые священные чувства были объявлены преступлением, самые нежнейшие цветы его сердца были вырваны и выставлены всем на обозрение, словно ядовитая змея. Прошло немало времени, прежде чем он осознал, что такая страшная несправедливость действительно существует на свете, и понял, как он беззащитен, как бесконечно далек от того, чтобы обладать хоть чем-то, необходимым для защиты. А когда он понял это, он горько заплакал. Скальд не плакал вслух с тех пор, как был маленьким, и теперь звук собственных рыданий показался ему чужим, он был низкий и хриплый, в нем было что-то чужое, и скальд испугался его, словно неизвестной стихии. Его удивило также, что во время рыданий он испытывал сильную боль в горле, он не помнил, чтобы в детстве у него болело горло, когда он плакал. Мало-помалу он успокоился и перестал плакать.
Он долго лежал молча, не двигаясь, обессиленный, лишенный последней надежды. Снова во всей своей пугающей жестокости явилась мысль о бессмертии души, снова единственным утешением стала надежда на окончательную и бесповоротную смерть. Наконец на помощь к нему пришла головная боль, и он забылся.
Так прошел день и наступил вечер. Он открыл глаза и очнулся от сна. Он был счастлив, что еще может спать. Каким хорошим посредником оказался сон, этот родной брат смерти: юноша заснул в мучениях, а проснулся исполненный благодарности. В душе его больше не было мрака, луч заходящего солнца падал на его постель, и когда он открыл глаза, он уже не чувствовал себя одиноким. И это была не мимолетная игра воображения, а твердая уверенность. Луч обладал определенной формой, казалось, его можно было пощупать, и скальд сразу узнал его, да, да, это была старая золотая колесница, снова вернувшаяся к нему. Колесница явилась, когда он находился во мраке самого беспросветного отчаяния, когда все пути были отрезаны, когда он был лишен последней надежды и разлучен с единственным любящим сердцем. И вот из колесницы выходит невидимый друг, тот друг, с которым никакие силы в мире не могут разлучить человека, пока он способен нести бремя страданий человеческой жизни и встречать лицом к лицу несправедливости этого мира. Это он, невидимый друг, помогает нести бремя страданий человеческой жизни и встречать лицом к лицу несправедливости этого мира. Сначала этим другом были звуки божественного откровения, потом — Сигурдур Брейдфьорд. Теперь юноша уже больше не спрашивал, как это называется, ему было достаточно ощущать близость этого невидимого друга, знать, что он рядом.
Юноше казалось, что отныне неправда никогда не восторжествует в его жизни. Он всегда будет помнить об этом друге, и он принял твердое решение: даже в том случае, если ему никогда больше не выпадет ни одного светлого дня, он сделает свою жизнь отголоском того, что пережил в юные годы, и научит людей в песнях тому, что он сам постиг в горьких мучениях.
Возможно, этот юноша немного разочаровался в людях, ведь он верил, что люди по своей природе гораздо совершеннее, чем они оказались на самом деле, в детстве невольно в это веришь. А люди отвернулись от него и обрекли его на одиночество; справедливости ради следует сказать, что именно они были виноваты в том, что он был болен душой и телом, и вообще во всех его несчастьях. Но он не помнил зла, не ненавидел людей, их страсти не казались ему низменными, а желания — омерзительными, ничего подобного. Он не чувствовал отвращения ни к одному человеку. Он относился с уважением ко всем, даже если на то не было ни малейшей причины, и всегда всем хотел угодить. Он был благодарен Богу за тех изумительных людей, с которыми ему удалось познакомиться в жизни с тех пор, как он себя помнил, и до сего дня. И если бы те же люди, которые отвернулись от него и вчера еще издевались над ним, пришли к нему сегодня, он испытал бы к ним такое же доверие, как и раньше, и считал бы, что они понимают его, понимают, что такое душа, даже если они пришли всего на минутку и присели на край его кровати. Тот, кто встретил однажды невидимого друга, не мог больше видеть в людях ничего плохого, даже если они отняли у него все — и радость и последнюю искру надежды; какое это могло иметь значение, все равно он сделал бы что угодно, лишь бы хоть капельку обогатить их, умножить их радость, укрепить их надежду и украсить их жизнь. Пусть они называют его слова богохульством и похабщиной, а пламень его сердца — преступлением и распутством, пусть они морят его голодом, гонят больного и беспомощного прочь из дома, все равно он каждую минуту будет отдавать этим людям лучшее из того, что у него есть. Трудно быть скальдом и любить Бога и людей на берегу самого дальнего северного моря. Тот, кто выбрал себе такую судьбу, никогда не получит никакой награды, никакого удовлетворения, не увидит ни одного радостного дня, не найдет ни минуты покоя и не обретет утешения. И только невидимый друг поможет ему нести бремя человеческих страданий и спасет, чтобы несправедливость когда-нибудь не сломила его.
Глава двадцатая
Июньское утро. Редко благословенное летнее солнце смотрит ласковее на эти скалистые северные берега! Скальд давно знал, что однажды весенним утром он проснется рано-рано… И все-таки этот день наступил, когда он меньше всего его ждал.
Он знал, что накануне вечером на хутор прибыл гость, который остался ночевать, он слышал его веселый смех снизу, и смеху гостя вторили даже мрачные обитатели дома. Но только утром, на рассвете, матушка Камарилла рассказала Оулавюру Каурасону, зачем пожаловал гость. Приходский совет в Свидинсвике прислал его сюда, чтобы забрать Оулавюра.
— Дай я помогу тебе одеться, горемыка.
Юноша ничего не ответил, он не мог справиться с нахлынувшими мыслями. Он только чувствовал, как матушка Камарилла старается натянуть на него чулки. Но едва она подняла его и попыталась поставить на ноги, он потерял сознание. Когда он пришел в себя, над ним склонился провожатый Реймар, он поцеловал Оулавюра, пожал ему руку, окинул его, как хрупкий и трудно перевозимый товар, критическим взглядом опытного перевозчика и засмеялся.