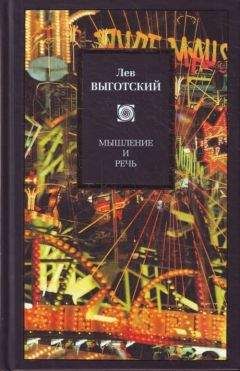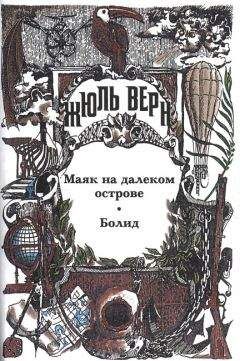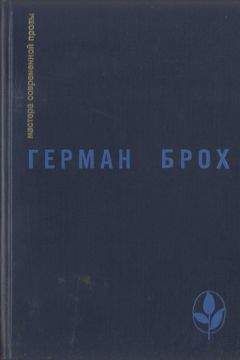Герман Брох - Новеллы
— Да мы придем как раз вовремя, — сказала она, — это и так бог знает сколько тянется.
Гледис ни словом не возразила ей.
Фрау Фильсман не отпускали воспоминания об ульмской прабабушке, они еще больше захватили ее, когда она оказалась в ложе концертного зала. Вокруг было столько людей, такое множество чужих лиц, и куда меньше знакомых, хотя было довольно и тех, кого она могла бы признать своими. Ей казалось, что с вершины своего возраста ей доступен широкий обзор всего многообразия человеческого рода, что ее взгляд простирается не только на живущих и сидящих с ней в одном зале, но и на умерших, а, может быть, даже на рождающихся и грядущих. Все те, кто ее сейчас окружал, составляли какое-то однородное целое, тонувшее в монотонной болтовне, которая еще больше скрепляла эту однородность — все это с высоты семидесяти лет открылось взору фрау Фильсман, а для нее существовал лишь круг людей, у которых она восприняла свою кровь и чью кровь она передала потомкам; она видела перед собой не только поросль семи поколений, но и разветвление крови — она не могла найти точное слово, но мысль работала ясно; это было разветвление крови, соединившее все существующие социальные слои. Тут были мастеровые и полукрестьянские предки, тут находилась и Туанет, молодая крестьянка, не ведающая своего корня, здесь была и неправдоподобно хрупкая, дворянской кости, невестка и сын Герберт… Фрау Фильсман прервала ход мысли, ей стало как-то неловко определять кровь собственного ребенка, и она быстро перешла на себя, расположившуюся в сердцевине всех поколений и социальных слоев, здесь, в этой ложе, истинно живую среди всех живущих, заполонивших все вокруг своей болтовней.
Но вот в одном углу зала раздались аплодисменты, и тут же зааплодировали все: на сцене появился знаменитый, всеми обожаемый дирижер. Он прошел между рядами музыкантов, остановился возле второй скрипки и поклонился залу. Это был маленький, коренастый человек с плоским, слегка негроидным лицом музыканта, но почему-то светловолосый. Ему пришлось не раз поклониться, но вот он решительно повернулся к залу своей чернофрачной спиной и поднял обе руки. Бетховен, Седьмая симфония: гвоздь программы.
Как только он резко откинул голову, прислушиваясь к начальному мотиву, извлеченному по его воле, произошло нечто удивительное, то, ради чего многие, по крайней мере Гледис, так рвутся на подобные концерты. Возможно по той же причине и дирижер так вчувствовался в мотив, взмывший из недр оркестра. В нем ощущались мощь и какая-то бюргерская добротность, что сравнимо с опрятной и еще не утратившей зеленой силы осенью. Это был голос возвращенного минувшего, это было погружение в самодовлеющую устойчивость, ставшую когда-то великим достоянием человека, устойчивость, которая под именем искусства обретала еще большую торжественность, чем само искусство, это возродилось спокойствие и защищенность бюргерского бытия, вострубившего о своем величии. И зал, концертный зал 1930 года, вновь наполнился воздухом, которым дышали деды и прадеды, и публика с такими послевоенными лицами казалась переодетой в костюмы отцов.
Это любила Гледис, и за это она любила музыку. Вероятно, многие разделяли ее чувства, о чем свидетельствовала слава дирижера. В сущности, он не был современным дирижером. Совсем не педант и слишком драматичен. Он всегда брал чью-либо сторону. Сейчас он был на стороне первой скрипки. Он повернулся к ней всем корпусом, и его красивая и проворная рука навевала ей мелодию. Второй скрипкой он откровенно пренебрегал. Как полицейский на перекрестке, он, не глядя, подавал ей знаки из-за спины. Он сталкивал между собой группы инструментов, поощрял одну и глушил другую, и все ради мелодии, которая сплеталась легко, не задевая душу, но грозя в нее хлынуть. И какой виртуоз! От движения одного его пальца басы заходились в тремоло. Стратег звучащего искусства, он как-то неуклюже стоял на своих толстоватых йогах, и Гледис было немного жаль, что его войско не в силах исполнить всю его волю. Шестнадцать музыкантов в роли первой скрипки: Но Бетховен не помышлял о такой громаде звука.
Туанет, подперев голову рукой, изучала публику. Ее раздражали и те, что сидели с закрытыми глазами, и те, что отбивали рукой такт, но противнее всего были женщины, одержимые животным восторгом, что-то крайне непристойное виделось ей в неподвижных истомленных улыбках, в замутненных страстью глазах, и все это вступало в не совсем ясную для нее связь с дирижирующим негром во фраке. Неужели они все готовы с ним переспать? И только тут ее осенило, что музыканты там па сцене — все сплошь мужчины, мужчины, выполняющие странную работу: одни разом взмахивают смычками, другие разом присасываются к трубам, и лишь тот, кто был при литаврах, жил своей относительно свободной, но осторожной жизнью. Но и он был мужчиной. И хотя на американских концертах творилось примерно то же самое, во всей этой затее она подозревала какую-то европейскую вымученность, какой-то непорядок, ломающий прямую линию ее жизни, и это тем более досаждало, что ей все больших усилий стоило представить себе родину и мужа. Конечно, во всем виновата Гледис, которая затащила сюда их с бабушкой, и когда ее взгляд перешел с неподвижной и непроницаемой бабушки на Гледис, она убедилась, что и Гледис впитывает своими сухими глазами танец коротконогого дирижера.
Не исключено, что фрау Фильсман просто скучала. Прошло много лет с тех пор, как она побывала на первом концерте в своей жизни, и всегда было одно и то же. От всей музыки ничего не осталось, им единой мелодии не задержалось в ней, но она никогда не сетовала на это и не считала себя внакладе. Вид концертного зала по-своему волновал ее, может быть, и она ощущала не заглохшую жизнь бюргерства, лелеемую здесь, как на каком — нибудь острове. Здесь-то она не изменилась, разве что раньше музыканты все больше носили бороды и дирижеры были не так размашисты. Каким-то образом этот концертный зал был причастен к деловому восхождению ее мужа, к успеху его предприятия, так же как к тому были причастны театр или городская квартира, поэтому она находила здесь что-то близкое и радостное, что подтверждало долговечность и неколебимость, па которых держалось дело Фридриха Иоганна. И фрау Фильсман вспомнилось, с каким недоверием она въезжала в городскую квартиру, она испытывала головокружение и почти ужас. — Но Фридрих Иоганн смеялся, успокаивая ее широкой мужской улыбкой, он всегда так смеялся, когда приходил черед платить за квартиру. Да, куртку она продолжала хранить. И еще тогда была музыка, понятная и нужная, были танцы и не было страха.
Между тем началась вторая часть. И смутный маршевый мотив помирил дирижера со второй скрипкой. Он стоял широко расставив ноги, и когда его лицо поворачивалось в профиль, на нем отчетливо проступала скорбнострадальческая мина. О, эти неуемные волны благородной печали! Гледис, которая в течение первой части была настолько усыплена чувством спокойного благополучия, что едва ли слышала музыку, ощутила прилив теплоты, имевшей уже слуховые истоки, ровно или, лучше сказать, плотно заполнявшей все ее существо. На какое-то время она даже забыла о скуке, злой и неотвязном, не покидающей ее даже в лучшие мгновенья любви, скуки, готовой поглотить все, ибо бешеное колесо времени, как ненасытная неизносимая и до жути бесшумная машина, измотало ее душу. Гледис, так мучительно ожидающая завтрашний день, который ни разу не наступил и держал ее в постоянном напряжении, оживала лишь в такие минуты: машина прекращала свою бесшумную работу, время покорялось, отдаваясь на волю сладостного ритма, и сердце Гледис понемногу начинало дышать. Дыхание музыки! Дирижер умоляюще призывал всю мыслимую силу звука, но как только достигал этой цели, выравнивал звучание в согласии с ходом высшего бытия. Дыхание музыки, слияние человека с мировым целым, вселенское дыхание души! Колебание воздуха, дуновение, исходящее от бога, оно пронизывает даже тех, кто закоснел в ничтожестве. И Гледис, которой даже трепет тела любимого человека казался не более чем скучным гротеском, не замечала гротеска концертного зала, состоявшего из предельно внимательных ушей.
Плохие дирижеры имеют обыкновение подавать литаврам какой-то особо выразительный знак. Хорошему дирижеру, а здесь был именно таковой, чужды подобные эффекты. Он — поверенный вечности, и если даже его роль сводится к телодвижениям, в которых оркестр читает определенные знаки, он — немой певец, и его неслышная песня так же одушевлена, так же бестелесна, как человеческий голос. Но Туанет отнюдь не жаловала певцов, они представлялись ей чем-то вроде официантов, поскольку в Южной Америке их часто использовали для окрашивания торжественных обедов, и это навело ее на мысль, что существует очевидная связь между облаченным во фрак мужчиной, там, на сцене, и итальянским тенором, которого она недавно слушала. Снова она всматривалась в Гледис, снова ей казалась неприличной гримаса восторга, а возвышенная бестелесность всей этой музыки каким-то образом увязывалась с бездетностью Гледис. Дирижер вскинул ладонь — и вихрем рванулось скерцо, разумеется, лишь для того, чтобы вновь сникнуть, повинуясь легкому движению его головы. Этому не было видно конца, и во всем чувствовалось что-то уж слишком немужское, да, над этим витала тень Бетховена. Туанет вынесла из своего ученичества представление о нем как о человеке, который вел очень даже мужскую жизнь, но это было давным-давно, такая мужественность устарела, теперь дело мужчины — разводить скот, управлять автомобилем, и она опять вспомнила Фернандеса, вспомнила, как он слезает с лошади после очередного объезда пастбищ. Даже унизительно, что ей подсунули этого дирижера. Ну, может быть, и не подсунули. Но ее же заставили пойти на концерт. Если бы не бабушка, она бы с превеликой радостью забрала сына и уехала домой.