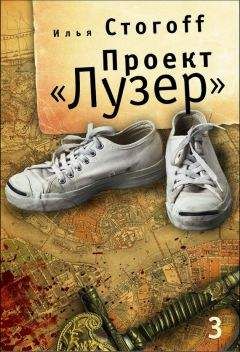Владислав Реймонт - Земля обетованная
— Всякая истина вначале подвергается осмеянию.
— Много у вас последователей в Лодзи?
— Он сам да мои собаки, только они запаршивели, потому что он запретил давать им мясо, — издевался Бухольц, который за столом ничего не ел, кроме овсяной каши с молоком.
— И в Лодзи, и во всей Польше — сплошь дикари!
— Потому вы и приехали? Отличное поприще для апостолов!
— Я написал книгу о вегетарианстве под названием «Натуральное питание», могу вам прислать.
— Благодарю, прочту с интересом, но сомневаюсь, чтобы в моем лице вы приобрели нового адепта.
— Пан президент сперва говорил то же самое, а теперь…
— А теперь, мой Хаммер, ты совсем поглупел, раз этого не понимаешь, — когда человек болен и вся дурацкая медицина ему не может помочь, он готов ездить к знахарям, к ксендзу Кнейпу и даже прибегнуть к твоему электрически-гомеопатически-вегетариански-мышьяковому методу.
— Потому что только он помогает, ибо принцип гомеопатии «similia similibus curantur»[14] — это принцип, наиболее соответствующий человеческой природе, единственно верный принцип. Пан президент может на своем опыте подтвердить это.
— До сих пор — да, но, если мне станет хуже, ты, доктор, можешь быть уверен, что я тебя отколочу своей палкой и велю спустить тебя с лестницы вместе с твоей дуростью.
— Кто возвещает новую истину, тому награда мученичество, — сентенциозно изрек доктор, дуя на молоко.
— Какое там мученичество! Ты получаешь в награду четыре тысячи рублей, и физиономия у тебя сияет от жира, как фонарь.
Доктор возвел глаза к потолку, словно призывая его в свидетели своих страданий, потом снова принялся за кашу с молоком.
Перед ним поставили тарелку салата с оливковым маслом и другую — с картошкой.
Все молчали.
Лакеи двигались бесшумно, будто тени, следя, кому что подать.
Один из них стоял позади Бухольца и мгновенно подавал ему то, на чем останавливался взгляд хозяина.
— Болван! — то и дело ворчал Бухольц, когда лакей запаздывал или неловко подавал.
Супруга его сидела на другом конце стола, совершенно не принимая участия в разговоре.
Она ела очень медленно, пережевывая пищу передними зубами, улыбалась бледными, как у восковой маски, губами и, окидывая Боровецкого мертвенным взглядом, то и дело поправляла кружевной чепчик, прикрывавший ее седые волосы, гладко зачесанные над желтым, сморщенным лбом и запавшими висками, и ласкала маленькой сухой желтой рукой попугая, висевшего на подлокотнике кресла наподобие пучка разноцветных перьев.
Когда надо было отдать распоряжение лакею, она подзывала его кивком и шептала на ухо или указывала пальцем. Чем-то она напоминала мумию и, казалось, сохранила способность лишь к некоторым простейшим механическим движениям.
Обед был весьма скромный, на немецкий лад. Мало мяса и много овощей.
Посуда самая невзрачная: не очень новые тарелки из потрескавшегося фарфора с голубками по краю.
Одному лишь Боровецкому подали коньяк и несколько сортов вина, сам Бухольц наливал ему, приговаривая:
— Пейте, пан Боровецкий, это хорошее вино.
Обед завершался в скучном молчании.
В столовой царила гнетущая тишина, лишь по временам попугай, которому не удавалось ничего стащить со стола, выкрикивал: «Болван!», повторяя словечко Бухольца в адрес лакея. И каждое слово, каждый звук отдавались гулким эхом в огромной столовой, где могло поместиться человек двести, обставленной темными дубовыми резными поставцами в старонемецком стиле и такими же табуретами.
Большое венецианское окно выходило на фабричную стену и света давало не много — был освещен лишь тот конец стола, у которого сидели обедающие, а все прочее тонуло в рыжеватой полутьме, из которой как черные тени появлялись лакеи.
Но вот лучи солнца пробились с одной стороны окна, и на половину стола легла полоса багряного предзакатного света.
— Опусти штору! — крикнул Бухольц, который не любил солнце и с удовольствием смотрел на засиявшую электрическими лампочками люстру.
Наконец обед кончился, к удовольствию Кароля, которого от этой тишины и скуки клонило ко сну.
Пани Бухольц снова поцеловала мужа в голову, подставив ему руку для поцелуя, затем автоматическим движением протянула ее Боровецкому, после чего он уже долго не сидел обменялся несколькими фразами с доктором и, так как Бухольц задремал в кресле, ушел, не простившись с ним.
Столовая опустела, остался только спавший в кресле Бухольц да лакей, который неподвижно стоял поблизости, не сводя с него глаз, готовый по первому кивку исполнить его волю.
Очутившись на улице, на свежем воздухе, выйдя на яркий солнечный свет, Боровецкий вздохнул с чувством огромного облегчения.
Он отослал ожидавший его экипаж Бухольца и пошел пешком — пересек парк и возле фабрик свернул с Пиотрковской на узкую немощеную улочку, которая вела за город и по одной стороне которой стояли длинные, мрачные рабочие казармы.
Их безобразный вид нагонял тоску.
Большие трехэтажные каменные коробки без каких-либо украшений, с голыми кирпичными стенами неприятно красного цвета, изгрызенными непогодой, высились на улице, покрытой зловонной грязью; ряды окошек, в которых кое-где белела занавеска или стоял горшок с цветами, глядели на могучие корпуса фабрики, расположившейся по другую сторону улицы за высоким забором и шеренгой тополей-великанов с сухими верхушками, стоявших будто грозные скелеты и отделявших унылые казармы от фабричных корпусов, которые в тишине воскресного отдыха, онемевшие, безмолвные, но могучие, выгревали на весеннем солнце свои безобразные телеса и хмуро поблескивали тысячами окон.
Боровецкий шел вдоль домов по узким мосткам и камням, местами совершенно тонувшим в грязи, на поверхности которой, как по воде, ходили волны, и брызги летели в окна первых этажей, в двери, за которыми в сенях и коридорах слышались детские голоса.
За домами тянулся длинный сад, отделенный дорогою от обширных пустырей, в глубине которых виднелись вдали красные стены фабрик и разбросанные в беспорядке одинокие постройки. С этих пустырей дул холодный, сырой ветер, он шелестел листьями живой изгороди из грабов — засохшие, желтые, они тряслись при каждом порыве ветра и падали на черные, раскисшие тропинки сада.
В саду стоял двухэтажный дом, где жил помощник Кароля Муррей; в этом доме и Каролю предлагали от фабрики квартиру — весь второй или первый этаж на выбор, но у него было непреодолимое отвращение к этому унылому месту.
С одной стороны окна дома выходили на дворы рабочих казарм, с фасада они глядели в сад и на фабрику, а по левую сторону дома, как и перед фасадом, тянулась последняя улица окраины, также немощеная, с глубокими канавами, вдоль которых росли старые, умирающие деревья, все больше клонившиеся, подмываемые потоками грязной воды с соседних фабрик; за деревьями простирался большой пустырь с множеством ям, луж гнилой воды, окрашенной отходами из белильни, с кучами мусора, который вывозили сюда из города; виднелись там и развалины кирпичных печей, и засохшие деревья, остатки загонов для скота, кучи оставленной с осени глины, дощатые хибарки и небольшие мастерские, примыкавшие к лесу, который поражал видом здоровых красноватых стволов и четкими, ровными очертаниями.
Боровецкий терпеть не мог этот лодзинский пейзаж, он предпочитал жить в наемной и не слишком удобной квартире, зато в самом центре города и с друзьями, с которыми его соединяли не столько дружеские чувства, сколько многолетнее знакомство и привычка. Они жили вместе в годы учебы в Риге, вместе ездили за границу и несколько лет тому назад вместе оказались в Лодзи.
Боровецкий был химиком, специалистом по краскам, Баум изучил ткацкое и прядильное производство, а Вельт кончил торговые курсы. В Лодзи их насмешливо называли «Вельт и два больших Б», или «Баум и К°», или «Три лодзинских брата».
Муррей выбежал в сад ему навстречу, вытирая на ходу руки — они у него всегда были потные — большим, как простыня, желтым фуляром.
— Я думал, вы уже не придете.
— Но я ведь обещал.
— А у меня сейчас один молодой варшавянин, который недавно приехал в Лодзь.
— Кто же это? — равнодушно спросил Боровецкий, снимая пальто в передней, увешанной до потолка гравюрами, в основном изображавшими обнаженных женщин.
— Он коммерсант, хочет открыть здесь агентство.
— Черт побери, из десяти уличных встречных шестеро это приезжие, желающие открыть агентство, а девять желают нажить миллионы.
— Но в Лодзи это часто случается.
— Хорошо, если бы эти приезжие были настоящей «краской», а то ведь самая никчемная «протрава».
Варшавянин, по фамилии Козловский, небрежно поднялся с кушетки, чтобы поздороваться, и затем тяжело опустился. Он пил чай, который наливал ему из самовара Муррей.