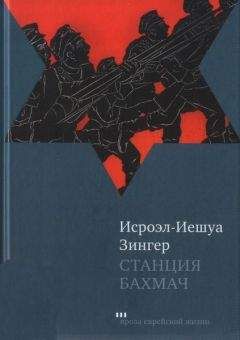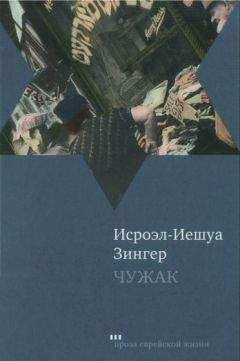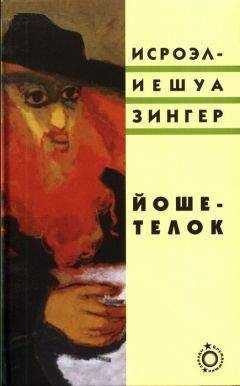Мигель Астуриас - Маисовые люди
— Опять ослеп или с ума сошел! — решил Чигуичон Кулебро, поджидая на галерейке. И ослепнуть и сойти с ума Гойо Йик мог вполне. Некоторые болезни особенно опасны, когда больной выздоравливает. От неразумия вообще не вылечить, а Гойо Йик неразумен. Угрозами и мольбами его удалось удержать в доме после того, как поистине чудом к нему вернулось зрение. Он порывался уйти, а куда ему идти и зачем? Когда снимут бельмо, нужна большая осторожность, резкий свет и порыв ветра могут навсегда вернуть слепоту. А сойти с ума он мог и от боли. Чтобы этого не случилось, Чигуичон давал ему попить чемерицы.
Гойо Йик не добежал до лесенки, ведущей на галерею, он рухнул и покатился, как неживой, по небольшому склону, спускавшемуся от ступенек к дороге. Сейчас он походил на чучело с открытыми чистыми безумными стеклянными глазами. Знахарь кинулся к нему, не понимая, в чем дело, и наклонился над ним как раз тогда, когда он собирался вонзить острые ногти в новорожденные зрачки, еще благоухающие светом и утренней росой. Чигуичон схватил его за руки, и пальцы, словно щупальца скорпиона, остались торчать среди жидких волос. Гойо Йик сжимал зубы, кусал губы, жесткие, словно солонина. Глаза оказались ненужными. Он не знал Марии Текун, она была для него цветком амате, он видел ее в плоде своей любви, в своих детях, а зрячими глазами цветка не увидишь, его разглядит лишь тот, кто видит изнутри, а не снаружи. И цветок, и плод — там, за бельмом, в дорогой сердцу тьме, где живут звуки, кровь, пот, слюна, где содрогается хребет, перехватывает дух, когда тронешь волосы или круглую, как плод лимона, грудь; где родится ребенок, вылетая ракетой из чрева, где полнится молоком короб женской груди; где раздается первый плач, когда заболит животик, или поднимется от сглаза жар, или помажут перцем сосок, чтобы отвадить от сосания; где шевелятся зверюшки из перьев, которыми пугаешь ребенка, когда он не ест лепешку и не пьет отвара из бобов, черных, как сама жизнь. Гойо Йик не вышел из пропитанной плачем темноты, пока все слезы не вытекли и не захотелось пить.
Знахарь убедил его в том, что он легко найдет Марию, потому что всегда узнавал ее по голосу.
— Уж ее голос ты от всех голосов отличишь…
— Может, и так, — не совсем уверенно отвечал былой слепец.
— Услышишь и узнаешь. А она тебя не узнает, хоть ты ей клянись, ведь теперь ты зрячий.
— Дай вам за все господь…
Когда Гойо Йик уходил от знахаря, не только сеньор Чигуичон Кулебро, жующий белейшими зубами белейший копаль, но и река под мостом, к которой он так стремился и забыл ее, покинув, и порывистый, изменчивый ветер, и мулы, и волы, и колеса телег, и голоса всадников в зарослях, повторяли ему на ухо: «Услышишь и узнаешь… узнаешь… узнаешь…»
XII
На паперти женщины пригибались, чтобы накинуть шаль на растрепанные ветром волосы, а мужчины выплевывали окурок кукурузной сигары и снимали шляпу, плоскую, как остывшая лепешка. Все они замерзли, заледенели. А в храме было жарко от огней. И мужчины, и женщины держали по пучку свечек в закапанных воском и потом пальцах. Другие свечи — сотня ли, две ли — горели у ног, на полу, на островках кипарисовых веток и лепестков чореке. Свечи были самые разные: от огромных, родовитых, на которых умещались и узор из фольги, и обет на булавочке, до крошечных; от дорогих, украшенных жестью и камедью, до грошовых. Горели свечи и на алтаре, среди сосновых веток и листьев пакайи. Над всеми этими знаками благоговения высился зеленый деревянный крест с алыми пятнами, изображающими драгоценную кровь, и на его поперечный брус было накинуто, провисая посередине, белое полотнище, тоже запятнанное кровью. Темнолицые, как дерево, люди неподвижно стояли перед ним, и мольбы их, шипя, словно щелок, устремлялись к символу страдания.
— …очень тебя прошу, животворящий крест, — и молитвенница крестилась сразу обеими руками, — очень прошу, сделай мне милость, разведи их добром, а то я злом разведу, не терплю я этого зятя. Лучше пускай дочка овдовеет, только бы им не жить!
— …забрал он, мерзавец, мою землю, она мне от отца Досталась, и я тебя прошу, святой крест, накажи ты его, пускай сам умрет, а то я убью, не пожалею. Сам видишь, крест, что будет, если ты его добром не уберешь!
— …все у нас пересохло, все ручьи, нет воды, в других местах лучше, и змей там меньше, и сглазу, и болезней. Помоги перебраться туда, богом прошу, а я на тот год схожу к тебе паломником! Не приду — накажи, только дай отсюда перебраться!
— …лучше бы умер младенчик, святой ты крест, все одно его Не вылечишь, совсем ослабел, как слепая курица, как черный клей, в чем только душа держится, лежит — не двинется, лекарства не пьет.
Они глядели на крест, покрытый водой, покрытый лавой, Морским песком, петушиной кровью, маисовым шелком, и он был Для них полезным другом, работящим помощником, который Пособит в nyrii и во всех делах, справится и с бурей, и с бесом, и с громом, и с ураганом, и с мором, и со смертью. Мольбы их словно щелок, и даже пахли кислым щелоком, язык онемел, колени затекли, кисти рук покрылись белой оспой капель, глаза стали как черные маленькие ягоды.
Стучали подошвы обутых, плакали младенцы в белых полотнищах, подвешенных за спиною у индианок, звенели колокола. Крестный ход двигался, как бы хромая: качались носилки с крестом, окруженные истинным роем мужчин, детей и женщин.
Крест двигался, церковь стояла недвижно, церковный двор и небо над ним покачивались в такт звону. Процессия миновала вспаханные поля, изгороди, с которых свисали мохнатые, как борода, цветы, чьи-то хозяйства, свернувшиеся червяками, белые, крытые черепицей домики, и вышла на бурую площадь, где росла над водоемом старая сейба и расположилась ярмарка: шалаши из кипарисовых веток, плетеные навесы на трех шестах, пестрые полотнища, натянутые на самые крепкие тростины и вздутые ветром, словно шар.
Гойо Йик вошел в храм Креста Господня, заливаясь слезами. На колени он встать не смог, он споткнулся и упал ничком. Те, кто остались сторожить свечи, громко засмеялись.
— Какого цвета слезы? — кричал он, лежа на полу, и отвечал сам себе рыдая: — Белые, как водка!
Староста в синем пиджаке с шестью рядами пуговиц и два его помощника в рубахах, плащах и брюках, не дожидаясь помощи от местных властей, выволокли Гойо Йика на паперть, где он и залег, словно мусор, постепенно покрывающийся мухами.
Женщины возвращались в церковь или проходили по дороге, и от звука их голосов он вздрагивал, стонал, протягивал руки, поджимал ноги. Он искал Марию Текун, но в глубине души он уже не искал ее. Он ее потерял. Чтобы услышать побольше женщин и узнать ее по голосу, он стал коробейником и обошел множество дорог, городов и ярмарок.
— Купи зеркальце, красотка! Гребеночки! Мыло! Духи для самых душистых! Альбомы, нитки, ленты, жемчужные сережки! Браслеты, платки, карандаши, открытки для влюбленных, иголки, булавки, расчески, флакончики с цветочным одеколоном! Бери, налетай, лишнего не сдеру!…
Женщины, стрекоча и торгуясь, рылись в его товаре и наконец выбирали что-нибудь или просили принести в другой раз. Если наведается сюда, не захватит ли пуговиц, блесток, шелка? Одной нужны круглые пяльцы, другой книжка, где советы влюбленным, третьей — ох, стыдно, не скажу! — приворотное зелье, которое накрепко привяжет друга… денег не жаль… и открыточку с любовным приветом и с именем, чтобы не забыл… Мария… Маргарита… Луиса… Кармен…
Пожилых его товары не привлекали, и он, чтобы они подали голос, сулил им четки, молитвы, скляночки со святой водой, гребни, черные накидки, мазь от ревматизма, пилюли от запора, шарики нафталина одежду пересыпать, камфару, бальзам от кашля, самые лучшие капли от зубной боли, китовый ус…
— Мария Текун была дурная женщина, — говорил он, шагая по дорогам. Его пустячный товар лежал в большом лотке, который он то носил за спиной на пропотелой холщовой ленте, обшитой кожей, то передвигал вперед.
Возвращаясь запоздно с базаров и ярмарок на деревенский постоялый двор, он глядел на свою тень, длинную, как стручок, и на тень от короба, торчавшего где-то у пупа. Все это вместе напоминало огромную двуутробку. В свете луны он из человека, мужчины превращался в самку двуутробки, которая носит детенышей на животе.
В одну из светлых, как день, ночей он встал под капель белого света, сочащуюся из ран порубленной лунной коры, под вязкий свет, который колдуны и знахари варят и дают попить тем, кто хочет сна и забвения. Свет, белый копаль, таинственный брат резиновой черной тени. Человек-двуутробка, облитый лунным светом, прыгал, и вместе с ним прыгала черная тень.
— Двуутробка, друг коробейников, поведи меня по самым кривым путям или по самым прямым, туда, где сейчас Мария Текун с моими детьми! Мы, люди, носим детей в сумке, как ты, и лица их не знаем, смеха не слышим, говорить не учим, пока они там сидят, полматери займут, а потом она их извергает, выбрасывает наружу и выходят они сюда, в горячую шерсть и холодную влагу, совсем такие, как ты, мохнатые, визжачие, темные. Помоги, двуутробка, лотошнику Гойо Йику, чтобы он поскорее узнал свою Марию Текун по голосу и по смеху, звонкому, как колокольчик!