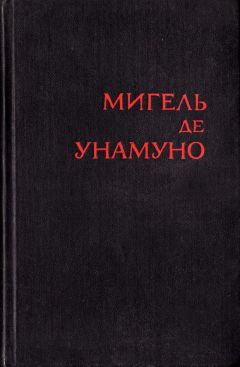Мигель Унамуно - Мигель де Унамуно. Туман. Авель Санчес_Валье-Инклан Р. Тиран Бандерас_Бароха П. Салакаин Отважный. Вечера в Буэн-Ретиро
«Но сколько же красивых женщин появилось с тех пор, как я узнал Эухению! — говорил он, следуя за двумя девушками. — Просто рай какой-то! Какие глаза! Волосы! Улыбки! Одна — блондинка, другая — брюнетка. Но которая из них блондинка? А какая — брюнетка? Они у меня смешались!..»
— Что с тобою, дружище? Ты спишь или бодрствуешь?
— Привет, Виктор.
— Я ждал тебя в казино, но ты не пришел.
— Как раз я туда и иду.
— Туда? В этом-то направлении? Ты с ума сошел?
— Да, ты прав, но я тебе все объясню. Кажется, я уже тебе говорил об Эухении.
— О пианистке? Да.
— Ну так вот, я безумно в нее влюбился, как…
— Да, как всякий влюбленный. Продолжай.
— Как сумасшедший. Вчера нанес визит родственникам Эухении и увидел ее.
— И она на тебя посмотрела? Не так ли? И ты поверил в бога?
— Нет, она не смотрела — она окутала меня своим взглядом; и не то чтобы я поверил в бога, но поверил, что я и есть бог.
— Крепко же тебя зацепило!..
— А какая она была сердитая! Но я не пойму, что со мной с тех пор происходит: почти все женщины мне кажутся красавицами; как вышел я из дому — еще и получаса, ручаюсь, не прошло, — я уже успел влюбиться в трех, да что я говорю, — в четырех. У одной были такие чудные глаза, другая с роскошными волосами, а только что я влюбился в двух сразу, брюнетку и блондинку, они смеялись, как ангелы. И я шел за каждой из них. Что же это такое?
— Дорогой Аугусто, родник любви спал, застывший в глубине твоей души, ибо не было ему применения. Пришла Эухения, пианистка, она встряхнула тебя и глазами своими всколыхнула эту заводь, где спала твоя любовь; любовь проснулась, забила ключом и, переполняя тебя через край, разливается во все стороны. Когда человек вроде тебя по-настоящему влюбляется в женщину, он заодно влюбляется и во всех остальных.
— А я думал, все будет наоборот… Кстати, смотри, какая брюнетка! Звездная ночь! Правду говорят, что черное лучше всего поглощает свет! Ты видишь, сколько скрытого света чувствуется под ее кожей, в черном янтаре ее глаз? Пойдем за нею!
— Как хочешь…
— Да, так я думал, что все будет наоборот, что когда человек по-настоящему влюбляется, то его любовь, раньше рассеивавшаяся на всех, сосредоточится на одной женщине, а все остальные должны казаться ему ничтожными и неинтересными… Смотри, смотри, какой блик солнца на ее черных волосах!
— Что ж, попробую объяснить тебе. Ты был влюблен — очевидно, сам того не зная, — в женщину, но абстрактно, а не в ту или другую. Когда же ты увидел Эухению, абстрактное стало конкретным, женщина вообще стала данной женщиной, и ты влюбился в нее, а теперь ты, не забывая Эухении, перенес свою любовь на всех женщин, ты влюбляешься в коллектив, в род. Итак, ты перешел от абстрактного к конкретному, а от конкретного к родовому, от женщины вообще — к одной женщине, а от нее — к женщинам.
— Да это метафизика!
— А разве любовь не метафизика?
— Бог с тобой!
— Особенно в твоем случае. Ведь твоя влюбленность совершенно церебральная или, как обычно говорят, головная.
— Это ты так считаешь!.. — воскликнул Аугусто, слегка задетый и раздосадованный: слова о головной влюбленности уязвили его в самое сердце.
— И если уж ты споришь, скажу тебе, что и сам ты — только чистая идея, вымышленное существо.
— Неужели ты считаешь, что я не способен по-настоящещему любить, как все люди?
— Ты влюблен по-настоящему, я тебе верю, но влюблен только головой. Ты думаешь, что влюблен.
— А разве быть влюбленным не значит думать, что ты влюблен?
— Нет, нет, дорогой, это гораздо сложнее, чем ты воображаешь!
— Как же определить, объясни мне, влюблен человек или только считает, что влюблен?
— Знаешь, лучше оставим этот разговор и поговорим о другом.
Когда Аугусто вернулся домой, он взял на руки Орфея и сказал ему: «Давай подумаем, Орфей, какая разница между тем, влюблен ты или думаешь, что влюблен? Влюблен я в Эухению или нет? Разве, когда я ее вижу, не бьется у меня в груди сердце и не воспламеняется кровь? Разве я не такой, как все мужчины? Я должен доказать им, Орфей, что я такой же, как они!»
Во время ужина он задал Лидувине вопрос:
— Скажи мне, Лидувина, откуда видно, что человек влюблен по-настоящему?
— Что за мысли вам приходят, сеньорито!
— Скажи, откуда это видно?
— Ну, как вам сказать… Он говорит и делает много глупостей. Когда мужчина по-настоящему влюбится, с ума сходит по какой-нибудь женщине, он перестает быть человеком.
— Чем же он становится?
— Он становится… ну, вроде как вещь или ручной зверек. Женщина делает с ним все, что захочет.
— Тогда, значит, если женщина влюбляется или, как ты говоришь, сходит с ума по мужчине, мужчина тоже делает с нею все, что захочет.
— Это все-таки не совсем одно и то же.
— Как?
— Очень трудно объяснить, сеньорито. Но вы по правде влюбились?
— Сам пытаюсь это выяснить. Но глупостей, отчаянных глупостей я еще не говорил и не делал, как мне кажется.
Лидувина больше ничего не сказала, а Аугусто спросил себя: «Действительно ли я влюблен?»
XI
Когда на следующий день Аугусто пришел в дом дона Фермина и доньи Эрмелинды, прислуга проводила его в гостиную со словами: «Сейчас позову». На минуту он остался один и как бы в пустоте. Грудь сжимало как обручем. Его охватило тревожное чувство торжественности момента. Он сел, сразу же встал и для успокоения начал рассматривать картины на стенах; среди них был и портрет Эухении. Ему вдруг захотелось удрать, спастись бегством. Но тут послышались быстрые шаги, и Аугусто как кинжалом резануло по груди, а голову заполнил туман. Дверь гостиной отворилась, вошла Эухения. Бедняга оперся на спинку кресла. Она же, увидев, как он помертвел, сама побледнела и остановилась посреди гостиной; затем подошла к нему и спросила прерывистым, тихим голосом:
— Что с вами, дон Аугусто, вам плохо?
— Нет, нет, ничего.
— Чем вам помочь? Вы чего-нибудь хотите?
— Стакан воды.
Как будто усмотрев в этом спасение, Эухения вышла, чтобы принести ему стакан воды, и сделала это очень быстро. Вода колыхалась в стакане, но еще больше стакан колыхался в руках Аугусто, который пролил воду на подбородок, не отрывая ни на миг глаз от Эухении.
— Если желаете, — сказала она, — я прикажу приготовить вам чашку чаю, а может, хотите мансанильи или липового настоя? Уже прошло?
— Нет, нет, ничего, все в порядке, благодарю вас, Эухения, благодарю. — И он вытер воду с подбородка.
— Ну хорошо, теперь присядьте. — И когда они уселись продолжила: — Я ждала вас все эти дни и велела прислуге впустить вас, даже если не будет дяди с тетей. Я хотела поговорить с вами наедине.
— О, Эухения, Эухения!
— Побольше хладнокровия. Я не воображала, что мое присутствие на вас так подействует, я даже испугалась, когда вошла сюда: вы были похожи на мертвеца.
— Я и впрямь скорее был мертв, чем жив.
— Нам необходимо объясниться.
— Эухения! — воскликнул бедняга и протянул руку, которую тут же отдернул назад.
— По-моему, вы еще не в таком состоянии, чтобы мы могли говорить спокойно, как добрые друзья. А ну-ка! — И она схватила его руку, чтобы пощупать пульс.
Пульс у бедного Аугусто лихорадочно забился, он покраснел, лоб его пылал. Глаз Эухении он уже не видел, не видел ничего, кроме тумана, красного тумана. На миг ему показалось, что он теряет сознание.
— Пощадите, Эухения, пощадите меня!
— Успокойтесь, дон Аугусто, успокойтесь!
— Дон Аугусто… дон Аугусто… дон… дон…
— Да, хороший мой дон Аугусто, успокойтесь, и мы поговорим.
— Но разрешите мне… — И он обеими руками взял ее правую руку, холодную и белую, как снег, с заостренными пальцами, созданными для того, чтобы, лаская клавиши пианино, пробуждать сладкие арпеджио.
— Как вам угодно, дон Аугусто.
Он поднес руку к губам и покрыл поцелуями, которые едва ли смягчили снежную ее прохладность.
— Когда вы закончите, дон Аугусто, мы начнем разговор.
— Но послушайте, Эухения, я при…
— Нет, нет, шутки в сторону! — И, отняв у него руку, добавила: — Не знаю, какого рода надежды внушили вам мои родственники, точнее говоря, тетка, но мне кажется, вас обманули.
— Как обманули?
— Да, обманули. Они должны были сказать вам, что у меня есть жених.
— Я знаю.
— Это они вам сказали?
— Нет, мне никто этого не говорил, но я знаю.
— Тогда…
— Да ведь я, Эухения, ничего не требую, не прошу, не добиваюсь; я буду вполне доволен, если вы разрешите мне приходить сюда время от времени омыть мой дух в свете ваших глаз, опьяниться вашим дыханием.
— Оставьте, дон Аугусто, все это пишут в книгах. Я не против того, чтобы вы приходили, когда вам заблагорассудится, и глядели на меня, и разглядывали, и говорили со мной, и даже… вы видели, я дала вам поцеловать руку, но у меня есть жених, я люблю его и собираюсь за него замуж.