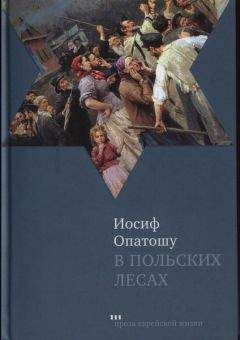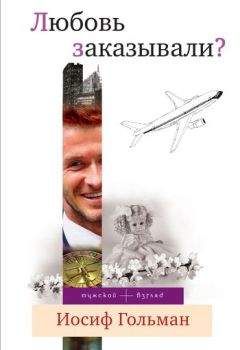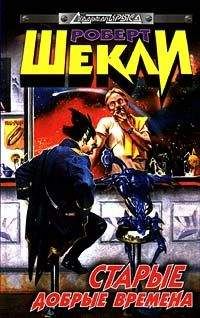Владимир Набоков - Дар. II часть
«Спасайся кто может, — небрежно проговорил Федор Константинович. — Скажи-ка, Зина, на кухне есть молоко[31]?»
«Да, кажется»,[32] — ответила она испуганно.
Он встал и ушел на кухню. Через минуту:
«Зина, — позвал он. — Иди-ка сюда».
«Простите, пожалуйста», — обратилась она к Кострицкому, и той же скользящей, голенастой походкой, которая у нее была пятнадцать лет тому назад, и так же сгибая узкую спину[33], пошла к мужу: «Что тебе?»
Он стоял с расстегнутым воротом, комкая галстук в руке, у кухонного стола[34]:
«Я прихожу домой, — сказал он вполголоса, — после мерзкого дня у мерзких кино-торгашей[35], я собирался сесть писать, я мечтал, что сяду писать, а вместо этого нахожу этого сифилитического прохвоста[36], которого ленивый[37] с лестницы не шугал[38]».
«Федя, что с тобой, успокойся, — зашептала она. — Он сам скоро уйдет».
«Не скоро, а сию минуту. У нас одна комната, и мне негде спрятаться, но, Зина, я просто уйду, если ты его тотчас не уберешь».
«Но я же не могу прогнать человека. Перестань, Федя. Возьми себя в руки. И вообще это не моя вина, я ни при чем, скажи ему сам. Я даже очень прошу тебя. Потому что я вовсе не хочу сидеть и выслушивать его пошлей<шие> гадости, хотя он страшно жалкий и совершенно ме<р>твый. Послушай, Федя...»
Он опять застегнул воротник и, сильно двигая плеча<ми>, ушел в прихожую. Затем хлопнула дверь.
Она вернулась к гостю, все более сердясь на Федора и с ужасом воображая, что какое-нибудь слово могло допрыгнуть, но тот, стоя у окна, с непритворным вниманием просматривал газету, оставленную Федором Константиновичем[39].
«У мужа голова разболелась, — сказала она, улыбаясь. — Он пошел в аптеку».
«А я у вас засиделся, — сказал Кострицкий. — Вот один из моих любимых каторжников, — добавил он, указывая на славное лицо какого-то министра или депутата и складывая опять газету. — Слушайте, у меня к вам маленькая просьба. Так сказать, по семейному праву. (Опять сбоку мелькнула затянутая прозрачной пленко<й> слюны[40] розовая дыра.) Хочу вас, кузина, подковать на десять франчей — с обязательной отдачей послезавтра».
«У меня только семь с сантимами, — сказала она, быстро порывшись в сумке. — Хватит?»[41]
«Мерси, — сказал Кострицкий. — Шляпы, кажется, не было. Был портфель. Вот он. Я как-нибудь вечером приглашу вас с мужем в кафе, и мы потолкуем по-настоящему».
[2]
<Заключительная сцена к пушкинской «Русалке»>[42]
Князь
Откуда ты, прекрасное дитя?[43]
Дочь
Из терема.
Князь
Где ж терем твой, беглянка?
Дочь
Где ж быть ему?
На дне речном, конечно.
Князь
Вот так мы в детстве тщимся бытие
Сравнять мечтой с каким-то миром тайным.
Как звать тебя?
Дочь
Русалочкой зови.
Князь
В причудливом ты, вижу, мастерица.
На, поиграй деньгою золотой.
Дочь
Я деду отнесу.
Князь
А кто ж твой дед?
Дочь
Кто? Ворон.
Князь
Будет лепетать... Ступай.
Да что ж ты смотришь на меня так кротко?
Нет, опусти глаза! Не может быть.
Должно быть, я обманут тенью листьев,
Игрой луны прозрачной; мать твоя
В сосновой роще ягоду сбирала
И к ночи заблудилась. Я прошу,
Признайся мне... Ты дочка рыбака,
Должно быть, — да,
Он заждался, тебя он, верно, кличет.
Поди к нему...
Дочь
Вот я пришла, отец.
Князь
Ты наважденье...
Дочь
Полно, ты не бойся.
Потешь меня. Мне говорила мать,
Что ты прекрасен, ласков и отважен.
Восьмой уж год скучаю без отца,
А наши дни вместительнее ваших
И медленнее кровь у нас течет.
В младенчестве я все на дне сидела,
И вкруг остановившиеся рыбки
Дышали и глядели. А теперь
Я часто выхожу на этот берег
И рву цветы ночные
Для матери: она у нас царица,
«Но, говорит, в русалку обратясь,
Я все люблю его, все улыбаюсь[44],
Как в оны дни, когда на св<иста зов?>[45],
К нему, закутавшись в платок, спешила
За мельницу...»
Князь
Да, этот голос милый
Мне памятен, и вздох ее, и ночь...
Дочь
Отец, не хмурься, расскажи мне сказку.
Земных забав хочу я[46]. Научи
Свивать венки, а я зато... Ах, знаю, —
Дай руку. Подойдем поближе. Видишь,
Играет рябь, нагнись, смотри на дно.
Князь
Ее глаза сквозь воду тихо светят,
Дрожащие ко мне струятся руки.[47]
Веди меня в свой терем, дочь моя.
(<Шагнул?> к реке.)
О, смерть моя![48] Сгинь, страшная малютка!
(Убегает)
Русалки
Любо нам порой ночною
Дно речное покидать,
Любо вольной головою
Высь речную разрезать.[49]
Одна
Между месяцем и нами
Кто там ходит по земле?
Другая
Нет, под темными ветвями
Тень качается в петле.[50]
Третья
Кушаком да сапогами
Это ветер шевелит,
Скрылся месяц — все сокрылось,
Сестры, чу, река бурлит.
Все
Это гневная царица,
Не дождавшись мертвеца,
Лютой мукой дочку мучит,
Упустившую отца.
[3]
Какая она изящная, жалкая, и что у нее один любовник за другим, и все бедняки.[51]
[...]«Ах ты, Боже мой, Феденька, не нужно, — говорила она тихо и с какой-то рассеянной [машинальной, увещевательной][52] <интонацией>, как бы думая о чем-то другом, но тоже незначительном, — ну, право же».
Встречи с Колет<т>[53]
Все в ней — ударило, рвануло,
До самой глубины прожгло,
Все по пути перевернуло[54],
Еще глагольное на гло[55],
На гладком и прямоугольном,
На чем? На фоне мглы моей.
Он обернулся и она обернулась.[56] Он сделал шесть шагов к ней, она три шага, такой танец, и оба остановились. Молчание.
Прямой и прозрачный уровень ее глаз приходился ему по узел галстука.
«Сколько же?» — спросил Федор Константинович.
Она ответила коротко и бойко[57], и, слушая эхо цифры, он успел подумать: сто[58] франков — игра слов, увлекается[59] — и рифма на копье под окном королевы. И я ответил: «многовато», хоть дал бы арараты злата, хоть знал, что жизнью заплачу, коль надобно, — а получу.[60] Уже отворачиваясь — только угол глаза, сейчас, и он <она?> уйдет, ясно произнесла: «Eh, bien, tant pis!»[61] — так учительница музыки заставляла ударить пальчиком-молоточком, когда я клавишамкал.
Как только уступил, она двинулась, быстро и тесно перебирая каблучками, и панель сразу стала страшно узкой и неудобной, и потом, тронув Федора Константиновича за локоть, она повела его наискось через улицу, — поводыренок и громадный, угрюмый, ликующий, грозный слепец. Удобства жизни: прямо с улицы дверь, желтенькая прихожая с загородкой, кивнула служащему, номер двенадцать, — и под завет<н>ый звук длинного звонка
[...][62]Поднялась по крутой лестнице[63], вертя узким, проворным, откровенным задком.
«La vie parisienne», но без шляпной картонки.[64]
Честно обменялись именами: «Ivonne. Et toi?»[65] — «Иван».[66]
Такая комната. Видавшее виды зеркало и несвежая, но прилежно выглаженная простыня — все как следует — и рукомойник с волоском и монументальный подмывальник.
Пародия горничной получила за номер да на чай, и, переходя к ней, деньги обращались тоже в подделку, в жетоны домашних игр, в шоколадные монеты. Enfin seuls.[67]