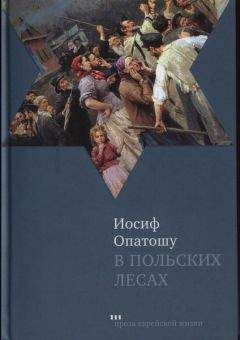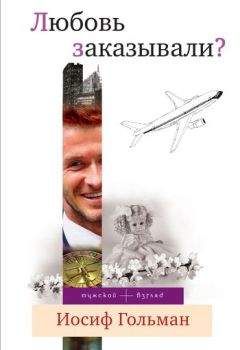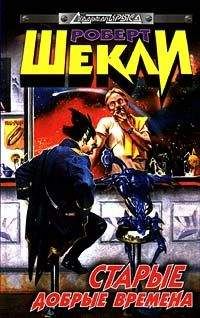Владимир Набоков - Дар. II часть

Обзор книги Владимир Набоков - Дар. II часть
ДАР. II ЧАСТЬ[1]
Первая страница тетради с рукописью Владимира Набокова «Дар. II часть». Предоставлена А. Бабиковым. Публикуется впервые.
© The Estate of Vladimir Nabokov
© The Estate of Vladimir Nabokov, 2015.
© Андрей Бабиков (публикация, подготовка текста и примечания), 2015.
[1]
«О, нет, — ответила Зина. — Книги, романы».
Кострицкий[2] или вроде Кострицкого ухмыльнулся, показав розовую дыру вместо резца:
«Видите ли, жизнь у нашего брата так складывается, что русская книжка, как таковая, попадается не часто. Имя, конечно, слыхал, но...»
Тут, разведя руками, он заодно потянулся к пепельнице[3]; основательно, аккуратно, даже с каким-то черным шиком обкусанные ногти говорили о долгих часах[4] ужасного досуга.
«А дяде Борису я писал, и неоднократно.[5] Между прочим, вот умница! Я всегда поражался, сколько этот человек знает, и как интересно, как внушительно... С вашей мамой зато я, к сожалению, не встречался.[6] Да и вообще, все это было весьма и весьма давно. Работа у вас есть?»
«Какую же вы ищете работу?»[7] — спросила Зина, усиленно стараясь побороть брезгливость и заставить себя предложить ему чаю.[8]
Он вдохнул последнюю порцию дыма и, испустив его, занялся истреблением окурка, причем все черты его страшно худого испитого лица[9] исказились бессмысленным минутным напряжением.
«Всякую и всяческую, — сказал он. — Но это не важно. Есть у меня одна страсть и даже, если хотите, профессия. Это — политика. Кое-что я уже наладил, имеются у меня даже... ну не последователи, а, скажем скромно, единомышленники... Но увы, нет ни органа, ни помещенья, ни средств. Я дяде Борису писал об этом в Копенгаген, но — увы, оттуда ни ответа, ни привета, а чем это объяснить? В первую голову: халатност<ью>, жеманфишизмом[10] русского человека, не понимающего, что без стальной поруки, без огня и меча (Кострицкий поднял кулак), мы в данную эпоху обречены на скотскую смерть. И вместе с тем, ведь — это парадоксально, но это так — ведь я знаю, что дядя Борис, будучи умным человеком, не может не понимать положения».
«Я хочу вас предупредить, — сказала Зина с той грозной веселостью, которая в таких случаях разыгрывалась в ней, — что я с моим вотчимом в прескверных отношениях и совершенно не выношу его идей и речей».
«Ах, да? — сказал Кострицкий. — Ну, знаете, это ваше частное дело. Я сам вот сколько уже лет с ним не видался, допускаю, что он мог очень измениться и перемениться за эти годы. Но меня огорчает, что, по вашим словам, ваш муж так далек от политики. Не представляю, как это возможно в наши дни».
Он замолчал и раза два птичьим тиком (у кого это было так?) натянул жилу на тощей шее, странно кривя рот. Темно-голубая, с зыпом[11], рубашка казалась ему широка, черный костюм лоснился, башмаки были в трещинках, но здорово вычищены.[12]
«Слушайте, хотите чаю?» — скороговоркой спросила Зина, уперев<шись> руками в диван, на котором сидела.
«Нет, не хочется.[13] Но вот я спрошу вас. Вы недавно приехали из Германии. Вы наблюдали тамошний режим. Хорошо. Объясните мне, почему государственный строй самого чистого, я бы сказал идеального вида, т.<о> е.<сть> построенный на горячей любви к родине, на силе духа, на благополучии народа, вызывает в множестве русских, видящих и у себя дома и здесь во Франции лишь развал всего, индиф<ф>ерентизм, жульничество, социальную несправедливость, по чему он, этот именно режим, вызывает в них дикую, животную ненависть? Почему это так? Нет, постойте. Не будем сейчас говорить таких страшных слов, как диктатура или антисемитизм — —»
«Но, кстати сказать, мой отец был еврей»[14], — звонко вставила Зина.
«Тем более. Оставим все это в стороне. Я сейчас не хочу вдаваться ни в какие оценки, мне просто интересно выяснить, почему так происходит, что мы вечно склон<ны> силе предпочесть любую размазню, а патриотизму — любые интернациональные[15] бредни?»
«Слушайте, — крикнула Зина, — ведь это сплошной вздор. Как можно на это ответить?»
«А я вот сейчас отвечу — —»
«Но вы исходите из того — —»
«Нет, позвольте, отвечу. Отвечу так. Хорош ли сам фюрер или не хорош, совершенно не важно: решит история; важно, и весьма даже важно то, что мы, по врожденной интеллигентской трусости и критиканству, физически не можем переварить какой бы то ни было конкретный строй, основанный на силе и чести. Мы боимся силы, какою бы она ни была. Добрая или злая. И моя политическая мечта — это заставить людей через огонь и меч переродиться, закалиться, так сказать, и увидеть в силе друга, а не врага».
«Боже, какая чушь», — повторила Зина.
«Докажите», — сказал Кострицкий и закачал ногой.
Она застонала, выбирая какое-нибудь слово побольнее да попроще, но он уже продолжал.
«Вы меня все-таки[16] не возненавидьте, Зинаида... Марковна...[17] Я частной ненависти не хочу. Пришел тип с улицы, назвался свояком и стал говорить страшные вещи. Понимаю. Но я-то сам, видите ли, слабый, очень больной. У кого это, вот вы литературная дам<а>, у Чехова, что ли, написано: „У меня внутри перламутровое чувство“? Переливается и мутит. Словом, язвочка желудка.[18] И масса личных огорчений! Ну да все равно. Вы сколько платите за эту квартиру[19]?»
«Недорого, около тысячи», — ответила Зина и вздохнула.
«Мебель — ваша», — определил он и вздохнул тоже.
Донесся знакомый раздраженный звук туговатого ключика. Зина, сидящая почти против растворенной двери, слегка наклонила голову на сторону, чтобы лучше увидеть через этот проем крошечную прихожую. Дверь на лестницу и мокрый макинтош мужа.
«У нас гость», — крикнула она с напускной оживленностью.
«Ага», — не сра<зу> откликнулся князь[20] из прихожей, и по его тону и по тому, как он, как бы заслонясь[21] собственной спиной, медлительно и злобно казнил повешеньем артачливое пальто, Зина поняла, что он пришел домой в одном из тех настроений, когда он мог нагрубить.
Он[22] вошел, щурясь и приподымая плечи и уже полезая за папиросницей. Каков бы он ни был в молодые годы[23], это был теперь крупный, чуть что не дородный, сорокалетний мужчина с густыми, жесткими, коротко остриженными волосами и шероховатой розовостью на шее и на щеках. Тяжелый, рассеянный, по-волчьи переливчатый и уклончивый блеск в темных глазах, странно натянутая кожа лба, диковатая белизна зубов и горб тонкокрылого носа, а, главное, общее выражение усилья, надменности и какой-то насмешливой печали, — обыкновенно произв<оди>ли впечатление почти отталкивающее на свежего человека и особенно почему-то на таких, кто был без ума от его книг, от его дара.[24] В его облике находили что-то старомодное, крамольно-боярское в грубом забытом смысле[25], и в совмещении с силой его движений, с писательской сутуловатостью, с неряшливос<тью> одежды, с легкой поступью, которую можно было бы назвать спортивной, если бы это слово не спорило с угрюмой русскостью его лица, эта его осанка была тоже с первого взгляда неприятна и даже несносна.
«...Что-то вроде моего кузена, — пояснила Зина. — Племянник Бориса Ивановича. Простите, я не совсем поняла вашу фамилию. Кострицкий?»
«Так точно, — сказал Кострицкий. — Михал Михалыч».
Пожав гостю руку, Федор Константинович сел, закурил, искоса взглянул на полурастворенное окно, за которым летний[26] день вечерел и растворялся в дождь и облака[27], а ветер возился с резиновой зеленью кленов.
«Господин Кострицкий думал, что ты пишешь политические статьи во французских газетах», — сказала Зина.
«Да, я уже слышал эту легенду», — медленно и без улыбки проговорил Федор Константинович.
«У нас был сильно-политический разговор», — добавила она.
«Позвольте-ка все-таки раз<обраться?>, — обратился Федор Константинович к Кострицкому. — Ведь я вас где-то видел. На каком-то собрании. И слышал».
«Возможно, я последнее время выступал довольно часто. Может быть, у „Независимых“?»[28]
«Не знаю. Вы говорили громко. Это все, что помню».[29]
«Но вы не совсем справедливы, Зинаида Марковна. Напротив, я очень осторожен. Я подчеркивал, видите ли, что никаких оценок не делаю. Мой тезис прост: прежде всего для правильного подхода к пониманию современных эволюций власти человеку русскому, рыхлому, мечтательному, интеллигенту, надо переключиться, отказаться совершенно от всех предпосылок его закоснелых симпатий и антипатий, и тогда, только тогда спросить себя, нет ли в том[30] выражении народной и индивидуальной силы, которую он априори так презирал, нечто [sic!] благотворное, нечто истинное и тем самым спасительное в отношении к русскому делу, единственное, может быть, спасение из хаоса коммунизма, социализма и парламентаризма».