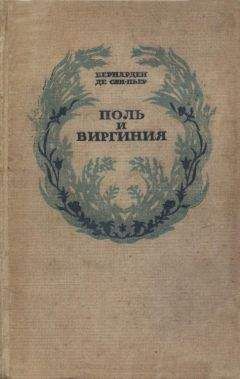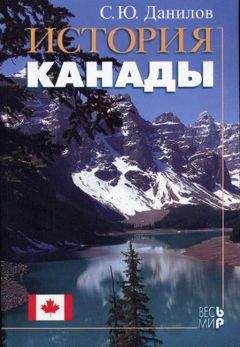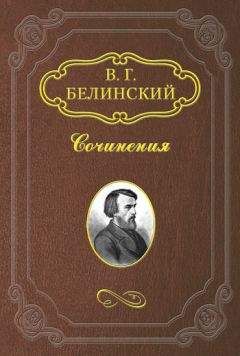Жан Жироду - Бэлла
До того над Францией висит страх перед кулаком политического интригана.
И никто больше не питает никаких иллюзий насчет природы власти Ребандара-Пуанкарэ.
Ребандар каждое воскресенье произносит речи на открытии памятников жертвам войны. Он каждый раз выступает с правительственными декларациями. Но банкир Монс единственный фактический хозяин Франции, уже давно знает их цену. «Политическая речь во Франции, — говорит он, — это жест. Все ее ждут, но никто не слушает. Судить поэтому Ребандара по его речам, это тоже, что судить о семейной жизни актрисы по тексту ее роли». Парламентские речи лишь картонное оружие. Покончив с ними, «государственные люди поднимают у подножья трибуны свое действительное оружие и с ним начинают доподлинную борьбу, борьбу кулуар».
Парламент — надоевший всем спектакль. Кулуарные махинации — вот живая жизнь.
Драма капитуляции старых принципов демократии перед махинациями банкиров и кулуарных дел мастеров находит свое выражение в конфликте главы дома Дюбардо с главой дома Ребандара.
Острота этого конфликта развита через любовь невестки Ребандара к сыну Дюбардо. Ее гибель — это гибель либерального романтизма, растоптанного сапогом Пуанкарэ-Война…
Как спасти свою Бэллу? Это Жану Жироду неизвестно. О Бэлле он рассказывает, что каждый раз, когда Ребандар отправляется, чтобы говорить с мертвецами (т. е. произнести речь на открытии памятника погибшим на войне), его невестка отправляется к живым, чтобы молчать с ними.
Таким же образом сам Жан Жироду молчит с живыми, не зная слов, чтобы указать путь спасения от Ребандаров-Пуанкарэ. Такой путь ему заказан. Третьей силы, силы пролетариата, который рассудит спор между старым романтическим либерализмом и оголтелым буржуазным империализмом, он не видит. Он ограничивается лишь идеализацией добрых старых демократов, над чем трезвые Пуанкарэ столь же потешаются, как Ребандары надсмехаются над Дюбардо,
Но тем убедительнее каждая страница этой книги, изумительно тонкой по силе анализа и необыкновенно задушевной по лиризму образа Бэллы, говорит о том, что царству Ребандаров-Пуанкарэ должен быть положен конец.
И.Нусинов
ГЛАВА ПЕРВАЯ
У моего отца, Рене Дюбардо, кроме меня, было другое дитя — Европа. Когда-то она была старше меня, но во время войны оказалась моложе. Отец уже не говорил мне о ней как об умудренном годами и опытом существе, судьба которого была почти устроена; он стал произносить ее имя нежнее прежнего, но с тревогой, как произносят имя юной дочери, которую нужно выдать замуж, и мои советы — советы молодого человека — казались ему небесполезными. Отец был — если исключить Вильсона — единственным полномочным министром в Версале, работающим над воссозданием Европы с истинным великодушием, а если говорить о компетентности, то — единственным без всякого исключения. Он верил в договоры, в их силу, в их обязательность. Племянник того, кто ввел синтез в химию, он считал возможным, особенно при современной высокой температуре, создать новые государства. Вестфальский трактат создал Швейцарию, Венский конгресс — Бельгию, государства, обязанные именно искусственности своего создания тем, что в них веял естественный дух нейтралитета и мира. Версаль должен был, в свою очередь, помочь появлению на свет новых наций, которыми была беременна Европа, и которые, вполне развившись, все еще оставались в ее недрах. Мой отец помогал в этой задаче Вильсону и сделал даже больше: он дал толчок центральной Европе, и юные нации потянулись к северу или югу, к востоку или западу. Во время своей юности, студентом, отец зарабатывал себе на жизнь, составляя для Большой Энциклопедии заметки об исчезнувших или порабощенных народах. На конгрессе в Версале — этого никто не заметил — он забавлялся исправлением тысячелетних несправедливостей: возвращал чешской общине то, что было у нее отнято каким-нибудь государем в 1300 г.; восстановлял права прибрежных городов, которым в течение нескольких веков было запрещено ловить рыбу в реке, и его именем (именем Дюбардо, которым в честь моего деда, т.-е. дяди моего отца, назывались фильтры, электрические токи, математические аксиомы) юные государства, двигаясь вперед по своим новым территориям, называли теперь водопады и озера, а затем все, что поднималось над эгоистической жизнью, также (носило теперь имя Дюбардо — то имя, которое носил и я. Им назывались госпитали, школы, железнодорожные станции. Вместо радостного крика «Таласса» [1], страна, для которой отец добился выхода к Адриатике, с криком «Дюбардо» посылала свою армию к морю. Если в старости я захочу поселиться — как это любят делать вдовы великих людей — на той улице или в таком уголке земли, который носит мое имя, то мне придется выбирать между вершинами гор, полуостровами, мысами и вообще такими пунктами земли, которые господствуют над другими. Когда отец путешествовал по Чехо-Словакии и в Польше, крестьяне толпами являлись к нему, умоляя его разобрать судебные процессы, тянувшиеся по двадцати лет. И он разрубал все эти запутанные узлы судебных споров, удовлетворяя обе стороны и не предлагая разрубать детей, как царь Соломон.
Отец смотрел на войну без всяких иллюзий. Его перу принадлежат в Большой Энциклопедии также заметки о бичах, истреблявших человечество, и о некоторых зловещих датах, о тысячном годе, о чуме, о гуннах. Он знал, что худшее нельзя остановить. Второго августа 1914 года, когда я еще надеялся, что кроме капрала Пюжо, убитого уже, удастся каким-то неслыханным счастьем избежать других жертв в этой войне, он знал, что миллионы людей уже пошли на гибель. Он и сказал мне все это на другой же день, когда я отправлялся в мой полк. Он не был ослеплен ни незнанием, ни общим легковерием — и не считал нужным утешать других ложью. Я был единственным солдатом, отправлявшимся на войну с сознанием, что она опасна, и отец достаточно уважал меня, чтобы знакомить меня с каждой новой опасностью. Расточительно тратя заряды по приказанию начальства, я знал, что у нас нет боевых припасов. Когда ложная тревога вызывала треск залпов по всему фронту, я отчетливо видел, как это через минуту вело за собой опустошение в обозе с боевыми припасами нашей роты, а к вечеру — в поезде, а на другой день — в арсеналах. Когда вся армия вечером снимала кэпи с противогазом и открывала на ночь лица, я знал, что час удушливых газов приближается. Каждый раз, когда нас гнали в «последнюю» атаку, я вспоминал, что мы заказали в Австралии запасы военного сукна на четыре года. Я знал, что японцы не придут, что кронпринц не грабил, что председатель общества увечных получил свою рану от своего товарища, охотясь за диким кабаном между траншеями. Я был атомом войны, очищенным от всяких обманов, у меня не было другого основания надеяться, кроме надежды; надежда была у моего отца таким же чувством, как слух или зрение; унаследовав ее от него, я питал ее нашими исключительными бедствиями. Конечно, невесело слышать позади себя грохот 75-дюймового орудия, мешающий вам спать и вызывающий ответные залпы, когда известно, что во Франции имеется запас снарядов только на два дня. Но я успокаивался во время моих отпусков при одном взгляде на отца, раскрывающего передо мной все опасности войны. Он приходил в ресторан около моего вокзала, где мы назначали друг другу свидание, несколько раньше назначенного срока, всегда довольный и бодрый. Это были единственные дни, — говорил он мне, — когда его заменяли на работе, и он не оставлял меня до вечера. Отец передавал все дела и всех союзников старому генералу Бримаду, которому безусловно верил, ибо Бримаду был неспособен понять доводы какого-либо штатского и не соглашался из зависти ни с одним военным аргументом. Это были дни Вердэна. Я взял Дуомон. Я радовался, как те, которые не потеряли понапрасну своей жизни. Отец тоже был весел, весел, как те, кто не потерял своего дня: он сумел добиться от короля-союзника обещания, что его армия не всегда будет отдыхать, а от англичан, — что они не эвакуируют Салоник. Мы шли в кино, несмотря на Бримаду, который напрасно телефонировал, не желая брать на себя ответственность на следующую ночь. Каждый новый председатель кабинета министров лишал моего отца своих милостей, но на первом же завтраке, в первое же путешествие расположение министра возвращалось к отцу: французы, особенно, когда они министры, любят играть, а мой отец знал все игры, которыми развлекаются различные поколения и расы, все эти легкие опиумы для народов, как-то: биллиард, лото, манилла [2]… Председатель совета министров не может отказать в доверии человеку, игравшему с ним в мяч в замке в Мадриде. В эти вечера, во время конгрессов, мрачные, как вечера в провинции, мой отец умел играть в Лондоне в домино, в Спа — в шашки, в Каннах — в бирюльки. Уже в вагоне-ресторане, привлеченные этим бонто [3], в котором отец никому не давал обыграть себя, министры дарили его своей дружбой, и это было их счастьем, так как одному он сейчас же указывал, где находилась Висла, и вручал свою карту Европы, давая ему серьезные преимущества перед Вильсоном и Ллойд Джорджем. Для другого — подбирал Сирию, выпавшую из корзины, и присоединял ее к приданому Франции. Он, может быть, не знал людей, но великолепно знал великих людей. Он знал нравы, силу, слабость этой международной расы, которая всегда живет, если не над законом, то по крайней мере у края закона. Он изучил даже их особенную анатомию. Он знал, как их откармливать и как их заставлять худеть, какие напитки и какая пища дают им их максимум политического гения. Как я любил эти вечера, когда, чтобы отдохнуть от возни в течение целого дня с десятью великими людьми — шестидесятилетними старцами, — он садился как раз против меня; я смотрел на его лицо, похожее на мое лицо, и обучал его играм моих товарищей, передавая ему мою молодость под видом этих игр, которые должны были сослужить ему службу на ближайшем конгрессе, чтобы с их помощью получить копи в Сарре и Камеруне.