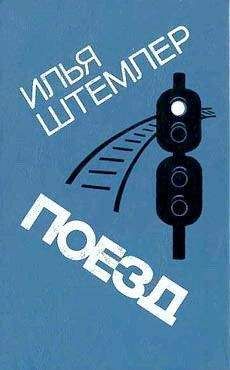Герман Банг - У дороги
Птенчики шли позади, перебраниваясь между собой.
– Ого, как вы несетесь, фрекен Иенсен, – сказала дочь пастора. Фрекен Иенсен, точно коза, скакала впереди через лужи. Осенняя слякоть вынуждала ее высоко задирать юбку над тощими девичьими ногами.
Они миновали опушку рощи. У поворота фру Бай попрощалась со своими спутницами.
– Какая вы маленькая и хорошенькая в этой огромной шали, моя прелесть, – сказала пасторская дочь и снова сгребла фру Бай в объятия.
– До свиданья…
– До свида-а-нья…
– Могла бы расщедриться на лишнее словечко, – заметила Малютка-Ида.
Дочь пастора насвистывала.
– А-а! Вот и капеллан, – сказала фру Абель. – Добрый вечер, господин капеллан… Добрый вечер…
Капеллан приподнял шляпу.
– Хотел засвидетельствовать почтение вновь прибывшим, – объявил он. – Добрый день, фрекен. С приездом.
– Спасибо, – сказала фрекен Абель.
– А у вас появился соперник, господин капеллан, – сказала фру Абель.
– Вот как? Кто же это?
– К Кьеру сегодня приехал новый управляющий – очень приятный человек. Правда, фрекен Линде?
– Еще бы!..
– Первый сорт, фрекен Линде?
– Экстра-класс, – ответила дочь пастора. Пасторская дочь и капеллан в присутствии посторонних всегда изъяснялись на жаргоне. Оба пороли всякий вздор и до упаду хохотали над собственными глупостями.
С тех пор как фрекен Линде однажды в воскресенье едва не рассмешила капеллана, читавшего с кафедры «Отче наш», она никогда не ходила в церковь, если проповедь читал капеллан.
– Фрекен Иенсен мчится так, словно ей вставили фитиль в одно место, – сказал капеллан.
Фрекен Иенсен по-прежнему маячила далеко впереди…
– Ну, знаете, Андерсен. – Фрекен Линде так и покатилась со смеху. – Вы, кажется, хотите перещеголять самого Хольберга.
Они подошли к пасторской усадьбе – первой усадьбе от проселка. У калитки дочь пастора и капеллан попрощались с дамами Абель.
– До свиданья, фрекен Иенсен! – крикнула фрекен Линде. В ответ с дороги донесся слабый писк.
– Так что же он за человек? – спросил капеллан, когда они очутились в саду. Теперь он говорил совсем другим тоном.
– Бог мой, – сказала фрекен Линде. – Вполне заурядный, добропорядочный агроном.
Они молча пошли через сад.
– Хм, – буркнула фрекен Ида. Семейство Абель нагнало наконец фрекен Иенсен, которая поджидала дам в том месте, где было посуше. – Проглотила небось, что он пришел поздороваться со мной…
Они прошли еще несколько шагов.
– Разные бывают на свете люди, – заметила фрекен Иенсен.
– Само собой, – подтвердила фру Абель.
– Мне не доставляет никакого удовольствия видеться с членами этой семьи, – сказала фрекен Иенсен. – Я стараюсь держаться от них подальше.
Фрекен Иенсен стала «держаться подальше» от семьи Линде всего неделю тому назад – с тех самых пор, как пастор произнес злополучные «слова»…
– Фру Абель, – говорила фрекен Иенсен. – Ну что остается одинокой женщине? Я это и сказала пастору. Господин пастор, сказала я, вы покровительствуете частной школе… поэтому родители и посылают туда детей… Если бы вы знали, что он мне ответил, фру Абель! Больше я никогда в жизни не заикнусь пастору Линде о пособии… Приходский совет отнял половину пособия у моего института (фрекен Иенсен произносила «инститот»). Я исполню свой долг до конца – даже если меня лишат и второй половины. Но пастору Линде я больше никогда в жизни не заикнусь о пособии…
Три дамы свернули на узкую тропинку, которая вела к «усадьбе» – старому выкрашенному в белый цвет дому с двумя флигелями.
Вдова Абель жила в правом флигеле, «институт» фрекен Иенсен помещался в левом.
– Подумать только, они обе снова под моим крылышком, – сказала вдова. Во дворе они простились с фрекен Иенсен.
– Фу, – сказала Малютка-Ида, едва только за ними закрылась дверь. – Ну и вид был у вас обеих на станции. Я едва не сгорела со стыда.
– Хотела бы я знать, какой у нас мог быть вид, – сказала Луиса-Старшенькая, откалывая перед зеркалом вуаль, – если ты увезла с собой все платья.
Вдова переобулась в шлепанцы. Подметки на ее ботинках совсем протерлись.
Фрекен Иенсен после долгих поисков извлекла из кармана ключ и открыла дверь. Из спальни, приветствуя хозяйку, раза два ворчливо тявкнул мопс, но не вылез из своей корзины.
Фрекен Иенсен сняла пальто и села поплакать в уголок.
С тех пор как пастор Линде произнес злополучные «слова», она принималась плакать каждый раз, как только оставалась одна.
– Вы покровительствуете частной школе, господин пастор, – сказала она ему в тот раз, – поэтому родители и посылают туда детей.
– Хотите, я вам скажу, фрекен Иенсен, почему родители посылают своих детей в частную школу? Потому что фрекен Серенсен знает свое дело. – Вот каков был ответ пастора.
Эти «слова» фрекен Иенсен повторила одной только хозяйке трактира.
– Что остается одинокой женщине, мадам Мадсен? – сказала она. – У нее одно прибежище – слезы…
Фрекен Иенсен сидела и плакала в своем уголке. Стало смеркаться, она поднялась и вышла в кухню.
Зажгла маленькую керосинку и поставила кипятить воду для чая. Расстелила скатерть на краешке кухонного стола и поставила хлеб и масло перед одинокой тарелкой.
Время от времени она впадала в задумчивость и снова перебирала в памяти слова пастора.
Мопс последовал за ней в кухню и улегся на подстилку перед пустой миской.
Фрекен Иенсен взяла собачью миску и накрошила в нее французскую булку, размоченную в теплой воде.
Потом поставила миску перед мопсом, и он стал есть, почти не шевелясь.
Фрекен Иенсен зажгла одинокую свечу и стала пить чай с бутербродами из черного хлеба – каждый бутерброд она разрезала ножом на изящные квадратные ломтики.
Напившись чаю, фрекен Иенсен отправилась спать. Мопса она принесла в спальню и уложила на перинку в ногах кровати. Потом взяла школьный журнал и положила у изголовья на ночной столик.
Потом заперла дверь и со свечой в руке заглянула во все углы и даже под кровать.
Потом разделась, отколола косы и повесила их на зеркало.
Мопс уже спал, посапывая, на своей перинке.
А фрекен Иенсен не спалось с тех самых пор, как пастор Линде произнес злополучные слова.
Фру Бай возвратилась обратно на станцию. Она открыла калитку и вышла на платформу. Здесь было пусто и так тихо, что слышалось, как гудят телеграфные провода.
Фру Бай села на скамейку перед дверью, сложила руки на коленях и загляделась на простор полей. Она любила посидеть вот так без всякого дела, если поблизости случался стул, скамья или ступенька.
Она глядела на простор полей – большие участки пахотной земли, а чуть подальше – луга. Небо было ясное, голубое. Глазу не на чем задержаться – разве что на церквушке соседнего прихода. Ее крыша и колокольня возвышались вдалеке над плоской равниной.
Фру Бай озябла и встала. Она подошла к плетню, заглянула через него в сад, потом отворила калитку и вошла. Сад представлял собой треугольный клочок земли, расположенный вдоль полотна; в передней его части тянулся огород, в дальнем углу была лужайка с беседкой под кустом бузины, а перед ней высокие кусты роз.
Фру Бай осмотрела розы – на них еще оставались бутоны. Розы щедро цвели в этом году – почти не отдыхали.
Но теперь уже скоро пора укрывать их на зиму…
И листопад уже начался. Что ж, ветру здесь есть где разгуляться…
Фру Бай вышла из сада и направилась вдоль платформы к маленькому дворику, отгороженному дощатым забором.
Она позвала служанку – ей хотелось покормить голубей.
Потом взяла глиняную миску с кормом и стала скликать голубей, рассыпая зерна на камнях.
Фру Бай очень любила голубей. Любила еще с детства.
Она выросла в большом провинциальном городе, и там их было видимо-невидимо… Так, бывало, и мельтешат у дверей отцовской мастерской…
Стоит ей подумать о доме, и она слышит, как они воркуют и курлычут.
Старый дом – позднее, после смерти отца, они продали его и мастерскую со всем, что в ней было, и переехали.
Голуби слетелись к фру Бай, склевывая корм.
– Мария, – сказала фру Бай, – посмотри, какой жадина этот пятнистый.
Служанка Мария вышла из дверей кухни и стала что-то рассказывать о голубях. Фру Бай высыпала из миски остатки зерен.
– Надо зажарить несколько штук к вечеру, к Баю соберутся партнеры по ломберу, – сказала она.
Она поднялась на крыльцо.
– Как рано стало темнеть, – сказала она и вошла в дом. После улицы в комнате казалось тепло и сумеречно. Фру Бай села за фортепиано и стала играть.
Она играла всегда только в сумерках и всегда одни и те же три-четыре мелодии, сентиментальные пьески, которые звучали у нее протяжно и монотонно и вдобавок совершенно одинаково, так что становились похожими одна на другую.
Когда фру Бай случалось остаться одной и играть в темноте, она всегда вспоминала о родном доме. Семья была большая, и детям никогда не приходилось скучать.