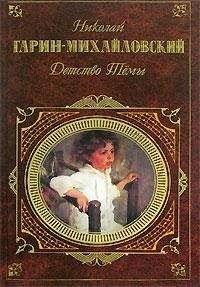Николай Гарин-Михайловский - Гимназисты
– Не так уж ужасно…
– Тебе не так, а вот когда сидишь за этой грамматикой проклятой, так обидно, так унизительно себя чувствуешь, как будто… если б в каком-нибудь обществе вдруг тебя на колени поставили.
– Скажите пожалуйста!.. Величайшие умы учили латинский язык, и это не помешало им сделаться великими и не унизило их, а вас унижает.
– Величайшие умы!.. Они наряжались в туфли, наряжались в парики, пудрились… Ну, а я все это проделаю?.. У них сознания не было, а у нас есть сознание бесполезности, у всех есть, а делаем… точно назло… на вот тебе…
– Ну уж это совсем глупости начинаешь говорить.
– Вовсе не глупости, – возразил Карташев, все более увлекаясь своим молодым задором. – В эпоху Возрождения латынь понадобилась потому, что своего ничего не было. Теперь своего столько, что вся наука древнего мира в моем каблуке поместится, а, собственно, та бестолковая грамматика, которую мы зубрим, совсем бессмысленная ерунда, которую одинаково не знаем ни мы, ни сами древние, ни учителя… Шутовской предмет, которого уважать нельзя, нельзя уважать и того, кто берется выдавать его за что-то серьезное… Выходит обман, фальшь, унижение… обидное унижение… Так иногда взял бы да пустил этой грамматикой в чей-нибудь деревянный лоб.
– Ах, как мило! ты его в лоб, он тебя в нос: доказали. Нет уж, милый! – вспыхнула Аглаида Васильевна, – когда дело до рук доходит, тогда конец всему: и прав будешь – один останешься, и друзья отвернутся, если у тебя других доводов нет.
– Сколько угодно есть…
– А если есть, то при чем тут руки?
– Досада…
– Досада? это уж личное чувство, а с личным никто и считаться не станет. Все личное только унизит и погубит: вот как этот спившийся техник.
– А его товарищ – совершенно обратное.
– Середину нужно… такт… понимание жизни; а раз понимаешь – твое я и потонет, и воли рукам незачем давать… Так же унизительно, как то непроизводительное зубрение грамматики, о котором ты говоришь.
– Так, значит, зло так пусть и будет, а ты смотри да радуйся?
– Мелодраматических злодеев нет, мой милый… Сознательно одно зло все не могут делать… Если ты чувствуешь в себе призвание видеть зло там, где другие видят добро, так и имей терпение выяснить это, представить тому неопровержимые данные.
– А если их знать не хотят?
– Что ж, знать не хотят? Сила не в тех, кто знать не хочет, а сила в твоей истине. Ты сам анахоретов приводил… Я тебе Христа приведу… Не унизил же он свою истину участием рук; наоборот, унизились те, кто его распяли… И люди оценили, поклонились распятому… две тысячи лет тому назад величайший деятель человечества показал единственный путь проведения в жизнь своих идеалов: сам прими страдания за них, если убежден, но волоса не тронь неубежденного; не смей унижать свою истину потому только, что ты малодушен.
– Значит, все-таки сложи руки и сиди: тебе будут плевать в глаза, а ты будешь говорить – божья роса?
– И в Христа плевали.
– Так то ж Христос.
– Вот-вот, и идея его – достояние мира.
– Нет, это все в теории хорошо, а на практике не годится.
– Именно… Поверь, эта мысль была еще яснее такому же практику, как ты, который стоял на Голгофе в момент распятия Христа.
– По-вашему, французская революция не должна была быть?
– По-моему, французская революция не убедила современников, сколько ни резали, – через десять лет уже сидел Наполеон.
– Но теперь все-таки ясно людям всё…
– Но не ясно вот что: может быть, истины эти, при распространении знания, сами собой прошли бы в жизнь…
– А теперь наверно прошли.
– И ученье Христа прошло.
Карташев напряженно уставился в мать:
– Учению Христа помогло небо, а здесь ум человеческий…
– Провел истины Христа, – докончила мать.
– Я что-то не помню там патера с распятием…
– Ну, об этом довольно…
VIII
ЭКЗАМЕНЫ
Прошла пасха. Начались переходные экзамены из шестого в седьмой. На экзамене истории с Карташевым случился скандал. Было задано на письменную тему – причины крестовых походов. Успех был обеспечен, но Карташеву захотелось отличиться, и он, разложив на коленях конспект, начал списывать с него. Директор, увидев это, встал и подошел к Карташеву.
– Это что-с?
– Я хотел по Гизо.
Директор пересматривал общую тетрадь Карташева, где были и полезные заметки, и фигуры голых женщин, а Карташев, смущенный и сконфуженный, стоял перед ним.
– Стыдитесь! – вспыхнул вдруг, как порох, директор.
Тетрадь полетела в угол залы, а за ней и все мысли Карташева. Мало того, что директор швырнул тетрадь, он приказал Карташеву поднять ее.
Карташев чувствовал, что директор не имел права так поступать, и в душе шевелилась мысль сказать ему это, но другая мысль, о том, что его за это исключат, заставила Карташева с помертвелым лицом покорно пойти и поднять свою тетрадь. Это был тяжелый удар самолюбию, и, если бы Карташеву сказали вперед, что он так поступит, – он, наверно, обиделся бы. А теперь обижаться ему не на кого было, он исполнил, по его мнению, лакейскую обязанность и испытывал своеобразное удовлетворение: хоть и унизился, а остался целым и невредимым.
Он, конечно, чувствовал себя оскорбленным и, отвечая, не смотрел на директора, но это был такой ничтожный протест, который и самого Карташева не удовлетворил.
Он получил по пяти и за устный и за письменный ответ. На письменный ему задали новую тему, и так как он ее не знал, то опять смошенничал, приняв на этот раз большие предосторожности. Последнее обстоятельство давало злое удовлетворение, но в общем, возвращаясь с экзамена, он хотел, чтобы весь экзамен этот был только сном, о котором можно было бы, проснувшись, забыть.
Конечно, было благоразумно с его стороны, что он не сделал скандала: выгнали бы – и только, а теперь все обошлось благополучно и получил даже две пятерки. Корнев получил четыре, Рыльский – три, но Долба тоже получил две пятерки. С Долбой директор был очень любезен и даже смеялся по поводу чего-то, а Долба держал себя уверенно, развязно и, кончив, так равнодушно тряхнул волосами, как бы говорил: «Иначе и быть не могло».
«Хорошо ему, – думал Карташев, – а случись это с ним, и он бы, наверно, поднял тетрадь, и Корнев, и Рыльский, и все».
Карташев чувствовал себя скверно: точно уменьшился вдруг ростом. «Все равно, день, два, а там и забудется, – думал он, – а пятерки останутся… Черт с ним, и с директором, и со всей этой историей. Я, что ли, виноват? На его душе грех… Эх, перелететь бы куда-нибудь к счастливым людям, где радость в том, что сознают свое достоинство, где молодость ярка и сильна, где люди ищут удовлетворения не в унижении других, а в уважении в этих других такого же человека, как они… Да, да, где эта счастливая страна?» И Карташев напряженно и нехотя зевал и гнал от себя бесполезные скучные мысли. Что-то продолжало сосать сердце, и вечером в ароматном садике, на дворе у Корневых, где все уже знали, конечно, про скандал, он сидел, стараясь быть естественным, и Маня Корнева спрашивала его:
– Что с вами?
Он слышал насмешку в ее голосе, чудилось ему пренебрежение и сожаление со стороны Рыльского, Долбы и даже Корнева. Он уж не любил в эту минуту Маню, он ничего не хотел, его тянуло домой, и, когда он шел по темным улицам и вспоминал, как любезна была Корнева с Рыльским, он уныло шептал: «А черт с тобой!.. Ну и кокетничай с своим Рыльским… С кем хочешь… Черт с вами со всеми!»
С этого вечера после экзамена по истории, когда Корнева кокетничала с Рыльским, все переменилось в их отношениях. Прежняя близость сразу исчезла, и Карташев чувствовал, что он вдруг стал чужим для нее. Только мать Корнева по-прежнему ласково гладила его по голове и даже нежнее обыкновенного говорила ему:
– Голубчик ты мой.
Но дочь ее, смотревшая прежде с удовольствием, когда мать ласкала Карташева, теперь равнодушно говорила:
– Ну, мама, уж пошла…
И она смеялась своим естественным, веселым и беззаботным смехом, от которого, казалось, все смеялось, и прибавляла уже серьезно, с ноткой пренебрежительного раздражения:
– Да, ей-богу же, смешно.
Карташев ежился и робко смотрел на Корневу: куда девалась та прежняя Маня, с которой так легко и весело ему было? Только с Рыльским она была прежняя. Теперь Карташев еще сильней любил ее и с непередаваемой болью видел, как пылкая, увлекающаяся Маня все больше заинтересовывалась Рыльским и смотрела на него так ласково, как никогда не смотрела на Карташева. А Рыльский, равнодушный и веселый, так смотрел на Маню, как никогда бы себе не позволил Карташев. Это было утешением для Карташева, и иногда он спрашивал Семенова:
– Как ты думаешь, Рыльский может сделать подлость?
– Какую? – переспрашивал Семенов и делался сразу серьезным и строгим.
– Вообще подлость?
Семенов несколько мгновений думал и без снисхождения утверждал, наклоняя, по обыкновению, голову: