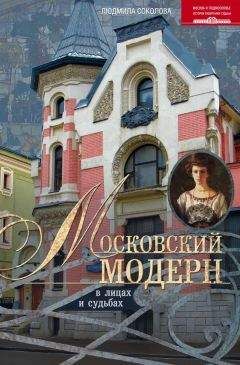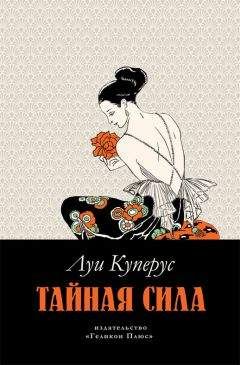Рихард Вайнер - Банщик
— О чем вы? — сказал я, совершенно лишившись воли; насколько мне помнится, произнес я эти слова послушным тоном, лежа под его взглядом, точно в наркотическом сне.
— Ну, — протянул он удовлетворенно и глянул на меня искоса, — о том, кто вас мучил, мучил — истязал — и был внутри вас!
Тут труба запела тревогу. И я словно вырвался из чего-то липкого и вязкого и опять встал на твердую почву, вернувшись к жизни. Шанкори выбежал прочь, мой денщик вошел на подгибающихся ногах: «Господин лейтенант, в поход». Было ясно, что он только теперь осознал, что началась война.
— Ну да, в поход… Боишься, Мельничек?
Но Мельничек заладил одно: «Матерь Божья!»
Я надел кобуру и вышел. Очень скоро полк со всей выкладкой построился на площади. Полковник, низенький человечек, явился последним; он быстрым шагом вышел на середину квадрата, образованного батальонами, и произнес отрывисто, раскатисто: «Für Gott, Kaiser und Vaterland». А мы достали сабли и крикнули «Ура!»
Зевак набежало много; то, что они увидели и услышали, как-то пригнуло их к земле и лишило дара речи. Но когда мы тронулись и они заметили, что наш путь лежит не прямо к ближайшей границе, а по дуге вглубь страны, то в них зародилась уверенность, что войне уже конец. Их охватила радость. Они махали шляпами, ликовали, подходили к знакомым солдатам, обнимали их. Верили, что все уже кончилось, но опасались явно выказать свою веру, чтобы не призвать этим зло. Да и нам стало легче, когда мы отошли от границы, хотя все понимали, что это только стратегический маневр. Но мы получили передышку и в упоении от этого неизвестно зачем обманывали себя, притворяясь, будто идем на пикник. Мол, просто очередные маневры. Город гудел, точно в храмовый праздник. Однако мертвые вещи и живая природа мудрее людей, они не дали себя провести.
Минареты не вздымались к небу, а скорее торчали вверх; сильно скошенные крыши магометанских жилищ судорожно цеплялись за каменную кладку фундаментов и, как фурии, впивались в балки кровли. Огромные окна венской кофейни точно опухли, внезапно состарившись за несколько дней, а дешевая лепнина не осыпалась с ратуши только каким-то чудом. Весь товар в торговом квартале, чаршии, пускай даже сложенный как обычно, находился в странном беспорядке и был покрыт слоем летучей пыли и грязи. Но никто не замечал этого. И только когда мы миновали последние цыганские лачуги на городской окраине и гомон толпы вдруг смолк — точно челюсти захлопнулись, — только тогда нам почудилось, будто за нами закрылись врата мира. Все мы мгновенно ощутили свою печальную отчужденность. Мы бороздили страну, и она не смыкалась, вобрав нас в себя, а оставалась после нашего марша разрезанной, как если бы воинская колонна была ножом, который кто-то вонзил в грудь земли и теперь по-мясницки кромсал ее. Нет, крови не было, но глубокий, с красивыми ровными краями рубец немо зиял болью там, где прошла наша колонна, и становился все длиннее и длиннее. Солдаты, которых воодушевление горожан заставило взбодриться (а из-за того, что именно на них было сосредоточено все внимание, взбодрились также и их мысли и чувство жалости и сострадания), на глазах мрачнели под тяжестью боевой выкладки. Мы замедлили ход, шли уже не в ногу, так что колонна стала напоминать пчелиный рой. Земля прониклась сознанием войны. Никакая видимость не могла обмануть ее. Дозревающий урожай кукурузы она несла на себе с раздражением, ибо знала, что нынешнее его предназначение греховно и противоречит мировому порядку. Все то, что издавна было чем-то вроде привычных эпитетов для здешних мест — холмы, домики, старые деревья и дороги, — все вдруг показалось случайным и недолговечным. Все вокруг было сбито с толку, потому что чувствовало — вечная цель, которой только и стоило служить — служить радостно и с упоением, — оказалась во власти кого-то гнусного, который переделал ее на свой лад.
Меня охватила жалость ко всем вокруг и даже к самому себе, к самому себе потому, что и все, и я сам были достойны жалости. Однако же себя я жалел только как зритель, а в голове моей тем временем бродило вот что:
«Неужели и эта глава закончится для меня так же незаслуженно счастливо, как многие, многие другие? Окажусь ли я вновь той самой кошкой, которая всегда приземляется на лапы?»
Я страстно жаждал катастрофы. Да-да, думая об опасности, которая меня подстерегала, я жаждал — и уже не в первый раз — получить сильно кровоточащую рану. Ибо, поверите ли: где-то в глубине души я завидовал людям, избранным богами для того, чтобы наградить их знаками своей ревнивой нелюбви. Я бредил катастрофой; нет, лучше сказать: я питал зависть к потерпевшим ее. При этом, признаюсь со стыдом, я всегда искал самые легкие пути — и находил их. Я был дитя Фортуны. Нет, я весь был маска, любезно улыбающаяся маска. Из глубин сознания всплыло воспоминание о разговоре с Шанкори тогда, в казино. Всплыв, оно кивало и указывало на него, шагавшего в хвосте четвертой роты; я шел во главе пятой, оба мы соблюдали устав. Он не замечал меня; маршировал себе да сбивал головки одуванчикам, росшим вдоль обочины. Как странно: до сих пор я не осознавал, что наше сходство пугает само по себе; а еще тем, что внешне я как будто лицо, а он изнанка одного и того же существа; внешне… а внутри?.. И каким образом вышло, что — если привести мысли в порядок — его преследования были мне раньше всего лишь неприятны, как любая трудность, как препятствие или нечто отталкивающее, но я не страшился того потаенного и глубинного ужаса, которым пронизаны наши отношения… Боже мой!
Шанкори, не оборачиваясь, незаметно замедлял шаг. И волей-неволей я постепенно нагнал его.
— Я не демон, — сказал он, как будто ждал меня. — Вовсе нет. Неужели вы до сих пор не поняли, что наше сходство страшно само по себе; что внешне мы с вами — точно лицо и изнанка одного и того же существа? Вы, дитя Фортуны, вы, любезно улыбающаяся маска, вы, кошка, приземляющаяся на лапы… Неужели я был неправ, когда верил, что где-то непременно обретается вторая половинка моего целого? Возможно ли, чтобы человек, раздираемый такими сомнениями, как я, не имел своей противоположности? Я мечтал о вас, вы обо мне. Неужели вы не ждали чудес от исполнения затаенных желаний, о которых не подозревал никто, даже вы сами? Вы желали себе, чтобы окружающие наслаждались вашими жизнерадостными неглубокими изречениями, такими простыми и ясными, и тешились вашими незатейливыми мечтами. Удовлетворяло это вас? Или же с помощью ваших лживых солнечных высказываний вы хотели раскрыть перед ними глубины истины, которые ужаснули бы их, но сами вы при этом остались бы якобы тем же невинным и недалеким парнем; а если взять ваши незатейливые мечты, так не были ли они только тетивой между концами вашего извилистого пути? Вы намеревались достичь цели с открытыми картами — и вам это удалось. Но ответьте по совести (если, разумеется, она у нас с вами есть), неужто не злились вы от того, что не умеете передергивать? Вы, такой доверчивый, такой религиозный, такой простой, — как страстно мечтали вы жить в драматическом напряжении, которое (говорили вы себе) проистекает из подозрительности, из скепсиса и из сложности… нет! из смятения. Как радовались бы вы, покорный наблюдатель, если бы в вас изволил вселиться пароксизм зависти. И — посреди всего этого успеха у друзей, у женщин, в делах — мечта о хотя бы какой-нибудь боли. Вы, Аполлон, вы, радостный, быстро приобретающий приязнь юнцов и старцев, вы, чье появление разгоняло тучи на небесах и челах, вы, певец, хохотун, балагур, разве вы не шептали в подушку: хочу ненавидеть, смертельно ненавидеть!
Я еще раз попытался уладить дело миром, осознавая, что это последняя моя попытка. Если он будет продолжать…
— Что мне в ваших словах! Я такой, каков есть, и жизнь подтверждает это.
— Неужели? — произнес он цинично. — Ну-ну. Перед лицом высшей справедливости вы хуже меня, поверьте! Ибо я не способен к злу, я лишь внушал его; вы же, более счастливый от природы, могли притворяться, что творите добро. И что же, вы творили его? Вы были добры? Так поведайте мне хотя бы об одном вашем хорошем поступке, об одной-единственной принесенной вами жертве.
— Их было много, — ответил я несмело.
В палатке, в которой Спайдан вел свое повествование, стало тихо. Наконец рассказчик со вздохом продолжил:
— …ответил я несмело, ибо, друзья мои, Шанкори заглянул в самые тайники моей души. Раздраженный предпринятой мною попыткой уйти от разговора, он сказал:
— Что ж, всмотримся в некоторые из них повнимательнее. Взять хоть вдову Траутвайн.
Я замер.
— Откуда вы знаете?
— Из-за своего дара. Двадцатидвухлетняя привлекательная женщина, с которой у вас был роман. Роман, основанный на вашем тщеславии. Из-за тщеславия вы и принялись опекать ее, когда она овдовела. Такой добряк, как вы, не мог поступить иначе. Почему вы не женились на ней? Вы были даже и не прочь. Все складывалось просто превосходно. Но вот двое ее детей. Дело серьезное, требующее обдумывания. Препятствие было вам на руку, хотя для всех вы оставались человеком бескорыстно благородным. Кто угодно подтвердит, что тогда вы были ее единственным другом. Уверен, что все именно так и думали. Вы навещали ее, желая утешить; и о детях вы тоже заботились — покупали им конфеты. Но почему же вы убедили ее не пытаться получить некое выгодное место? По тем никчемным причинам, о которых вы говорили? Вы прекрасно знаете, что вам не хотелось ничего предпринимать, — только поэтому вы выдумывали разные доводы. Вам также известно и то, почему вы так благородно отстаивали честь этого мерзавца Ярого. Он начал интересоваться госпожой Траутвайн как раз тогда, когда для вас стало превращаться в обузу даже это убогое платоническое покровительство. А после того как, выйдя замуж за этого распутника, она повесилась, вы целый месяц чувствовали себя уничтоженным. Сколь малая плата, сударь! Но потом вы «покорились судьбе». Ярый вас «обманул»… Летом вы отправились в Норвегию залечивать сердечную рану… Как-то раз вы поехали на похороны своего лучшего друга. Дорога туда была удобной, а вот добираться обратно оказалось сложнее: если бы вы дождались похорон, то пропустили бы свидание, о котором было условлено за неделю. Родственники покойного смотрели на вас едва ли не с обожанием. И то сказать, вы были единственным не из круга семьи. Но похорон вы дожидаться не стали, вам пришлось уехать раньше из-за «противных неотложных» дел. Эти бедные люди вам до сих пор глубоко благодарны. Они бы для вас луну с неба достали. И с тех пор вы много чего от них получили. А свидание ваше в тот вечер удалось.