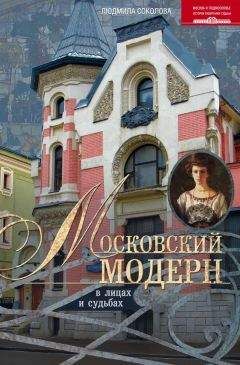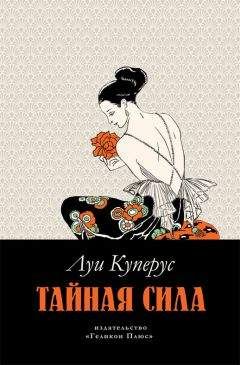Рихард Вайнер - Банщик
Он замолчал и провел рукой по лбу. И тут же попытался озорно улыбнуться — улыбка вышла ужасно противной, — а потом продолжал шутовски:
— Ловко я вам все объяснил, правда? Да уж, милый мой лейтенант, вы просто обязаны поверить в то, что я человек благородный! Я, как видите, натура выдающаяся. Вот только есть одна загвоздка: мне, словно по чьему-то приказу, удавалось в жизни как раз то, чего я мог бы себе пожелать, а прочее — пфф! — вылетало в трубу. И с внешностью то же самое: кокетлив, как барышня; осведомлен о том, что к лицу, а что нет. Я целеустремленно занимался своей внешностью — иначе нельзя, если хочешь прилично выглядеть. Я приложил много усилий, можете мне поверить. Ибо придерживаюсь мнения, что каждый человек обязан выглядеть прилично, так, чтобы на него, по возможности, приятно было посмотреть. Результат? — Зато вас украсил бы любой мешок. И так оно обстоит и со всем прочим, милый мой двойник, не правда ли?
Тут он взглянул на часы и поднялся:
— Служба зовет.
Я тоже встал. После столь банального завершения нашего разговора у меня точно камень с плеч свалился. Внезапно, не знаю уж почему, но, скорее всего, по чистой случайности, мы оказались вплотную друг к другу — и спасительное ощущение заурядности встречи разом пропало. Меня охватило ужасное чувство, что я выпустил из себя некоего злого духа, который вот он, рядом, стоит в моем обличии… и одновременно я злился и стыдился произошедшего, стыдился, что не смог справиться с собой при столь повседневных обстоятельствах. Фи — если попытаться выразить словами то чувство, это окажется омерзение, осклизлость какая-то, что ли.
— Вы все еще боитесь меня? — спросил он.
Я промолчал. Потом зажмурился и вскинул перед собой руку, точно обороняясь; он взял ее и приложил к своему сердцу:
— Вы слышите, как бьется ваше бедное сердце?
— Боже сохрани, чтобы это сердце было моим. — Вздрогнув, я попытался высвободить руку. Но он держал ее крепко и негромко, с наслаждением в голосе повторял:
— Слушайте, слушайте же, мой искупитель!
Тут он засмеялся и быстро вышел. Но через минуту вернулся и, делая вид будто ищет что-то, сказал как бы между прочим:
— Что вы об этом думаете: если существует чудовище, наполовину свинья, наполовину замечательный человек, — выражаясь без затей, напрямую, — и человек этот влачит жалкое существование, то разве не требует высшая справедливость, чтобы где-нибудь обитало подобное же чудовище, в котором прозябала бы свинья?
Я не мог снести такое оскорбление и бросился на него, но он удержал меня и произнес с улыбкой:
— Не так быстро. Для драк и прочих подобных безобразий у нас еще будет время. А разве вам не показалось знакомым то, что я только что сказал?
И он со смехом покинул меня.
Поезда все прибывали и извергали из себя солдат. Вам известно, какая неразбериха царила в первые дни после объявления мобилизации и в какое едва ли не комическое противоречие с нашими представлениями о войне вступили первые дни службы в ротах. Изматывающая канцелярская работа, с ужасающей быстротой пожирающая время. К вам то и дело являются какие-то беспомощные солдатики, которые уже подмели все казармы и которых вам велено зачислить в свой взвод. Всем приходится опять строиться, вы выкликаете фамилии, включаете в список новичков, из-за них все приходится переделывать. Да и кроме этого работы хватает! Надо раздавать всем то сапоги, то шинели, то консервы, то ружья или табак; взвешивать соль и перец; подсчитывать бумажки для самокруток; а потом еще кофе; а потом распределять людей для разных служб — тут вам и телефонисты, и пекари, и мясники, и вестовые; надо угодить начальникам; проверить личные капсулы с именами; заглянуть в мешки и мешочки для хлеба; кто болен? почему болен? приходит ротный: взводы разные по обученности солдат — исправить! исправляют; приходит майор: роты разные по числу солдат — исправить! исправляют. — Нет, думать о Шанкори было некогда. Было некогда думать даже о войне. Мы стали канцеляристами, страдавшими неврозом. Я служил в пятой роте, Шанкори — в четвертой. Наши роты располагались по соседству. Я не падал духом, в свободное время вел разговоры с солдатами или навещал офицеров. Все непрерывно обменивались то новостями, то жуткими историями, от которых звенело в мозгу и начинали вибрировать слишком туго натянутые нервные струны. В голове гулял ветер, он что-то разбрасывал, что-то взъерошивал, потом его сменял встречный ветер, который приглаживал взъерошенное, снова собирал в кучку разбросанное, а кое-что выметал прочь. То там, то здесь слышал я голос Шанкори. Он раздраженно отдавал приказы, малейшая оплошность выводила его из равновесия, он проклинал себя и весь мир, однако же солдат не бранил. Он был нетерпим и высокомерен с равными себе, но при этом в его брюзгливом голосе все время звучало что-то вроде сожаления, что он именно таков, каков есть; я внушал себе, что не надо волноваться, внушал так, что весь дрожал от нервного возбуждения и у меня начинался жар, а уж слов я проглотил столько, что мое пересохшее горло сжималось и к нему подступала тошнота. Солдаты быстро подметили наше сходство, оно всех страшно занимало, и мой фельдфебель, передавая мне однажды какую-то служебную записку от Шанкори, разрешил себе невинную шутку: «Господин лейтенант, вы изволили себе передать».
Я позабыл о разговоре с Шанкори. Наконец-то все приведено в порядок, роты находятся в готовности. Мы ждали только приказа о выступлении. За неделю безумной спешки нам стали наградой дни сибаритского безделья.
Однажды в четыре часа пополудни он совершенно неожиданно пришел навестить меня.
— Как поживаете?
— Да в общем неплохо, — ответил я так, как будто между нами ничего не произошло. Потом я растянулся на койке в надежде, что он оставит меня в покое. Однако он, как только мы обменялись приветствиями, склонился надо мной и сказал:
— Вам не кажется, что наше сходство все возрастает?
То ли взглядом, то ли интонацией, а возможно, изощренным и ловким подбором нарочито банальных слов он обратил заурядный (чего мне бы хотелось) визит в беседу, полную чертовщины и навевающую тоску — даже тем, как он, глядя спокойно и изучающе, прислонился к спинке кровати.
— Посмотрите же на меня!
Тем самым он предупредил вежливые возражения с моей стороны (ибо я намеревался еще раз попытаться очень вежливо выразить свое недовольство, хотя его присутствие и разволновало меня) против того, чтобы он снова начинал этот невыносимый разговор. Но его небрежное «Посмотрите же на меня!» заморозило мои слова и погрузило комнату в темноту, да-да, так мне показалось. И конечно же, мне не оставалось ничего иного, кроме как посмотреть на него, посмотреть так пристально, что у меня появилось то же чувство, как тогда в казино, когда мы внезапно оказались вблизи друг друга и мне почудилось, что я одновременно исторг из себя его тело и вобрал его в себя. Однако теперь я понял, что, глядя на него, я ощущаю вполне объяснимую дурноту: то самое легкое головокружение, которое появляется у человека, долго и напряженно всматривающегося в свое отражение в зеркале. Нянюшка, бывало, пугала меня: говорила, что тому, кто вечером глядится в зеркало, является черт. Никогда он мне не являлся. Случалось, однако, что во время длительных бесед с собственной совестью я вдруг чувствовал, будто раздваиваюсь, будто обе мои половинки отчуждаются друг от друга, не в силах преодолеть глубокое взаимное отвращение. Так было и сейчас, когда мне пришлось подчиниться его повелительному «Посмотрите же на меня!». И я чувствовал, что воля моя парализована точно так же, как это бывало перед зеркалом. Я распадался внутренне. В ту минуту я был его рабом. Где он, подлец, черпает свою силу, шептала моя немота, которая одолевает меня, мою веселую солнечную натуру? Но что это был за бунт? Капля воды среди пожара; она зашипела, но ее не услышали — и вот ее уже нет. И я пробормотал:
— Откуда вы могли узнать?..
А он отозвался весело:
— Потому-то я и здесь. Час пробил, нас вот-вот могут отправить на фронт. Надо же нам обо всем договориться, верно? — И закончил резко. — Насмотрелись уже, довольно с вас. Итак: вы поняли?
— О чем вы? — сказал я, совершенно лишившись воли; насколько мне помнится, произнес я эти слова послушным тоном, лежа под его взглядом, точно в наркотическом сне.
— Ну, — протянул он удовлетворенно и глянул на меня искоса, — о том, кто вас мучил, мучил — истязал — и был внутри вас!
Тут труба запела тревогу. И я словно вырвался из чего-то липкого и вязкого и опять встал на твердую почву, вернувшись к жизни. Шанкори выбежал прочь, мой денщик вошел на подгибающихся ногах: «Господин лейтенант, в поход». Было ясно, что он только теперь осознал, что началась война.
— Ну да, в поход… Боишься, Мельничек?