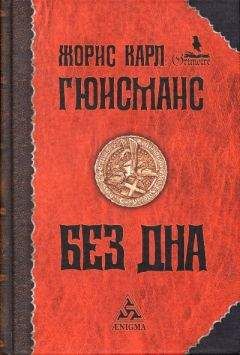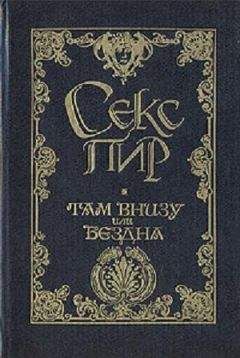Жорис-Карл Гюисманс - В пути
— А из какого народа святая Тереза?
— Да, я прекрасно знаю, что она испанка, но испанка слишком сложная и необычная, в которой следы ее племени кажутся стертыми, менее отчетливыми.
Бесспорно, что она дивный психолог. И наряду с этим она в причудливом сочетании выказывает себя пламенно-мистической и холодной деловой женщиной. Да, природа ее двойственна. Она созерцательница, живет вне мира, но в равной степени она государственный человек. Она Кольбер монастырей. Мы не знаем другой женщины, которая созидала бы с такой изумительной проницательностью, обладала бы столь мощной силой устроения. Если подумаешь, что она, поборов невероятные помехи, основала тридцать два монастыря и подчинила их уставу, который следует признать образцом мудрости, уставу, который предусматривает и исправляет самые неизведанные ошибки сердца, то невольно смущаешься, когда сильные умы называют ее истеричкой и безумной!
— Полное равновесие, совершенный здравый смысл, как раз один из отличительных признаков мистиков, — ответил аббат, улыбаясь.
Такие беседы поднимали дух Дюрталя, залагали в нем семена мыслей, дававшие всходы, когда он оставался один. Он увереннее полагался на мнения священника следовать его советам и ощущал на себе всю благотворность этой перемены, заполнившей чтением, церквами, молитвами его праздную жизнь и исцелившей его от скуки.
«Я обрел, по крайней мере, мирные вечера и спокойные ночи», — думал Дюрталь. Он познал умиляющую помощь благочестивых вечеров. Посещал Сен-Сюльпис в те часы, когда удвоялись колонны при тусклом освещении лампад и ложились на пол длинные тени ночи. Чернели открытые приделы, а в корабле церкви перед главным алтарем, словно букет, распускалась в сумрачной пустоте одна только люстра лампад, светившихся, подобно кусту мерцающих алых роз.
Безмолвие иногда нарушалось глухим шумом двери, скрипом стула, крадущейся поступью женщины, торопливыми мужскими шагами.
Дюрталь почти один сидел в сумерках любимого придела. И чувствовал себя тогда таким далеким от всего, таким далеким от этого города, который бурлит от него в двух шагах. Он опускался на колени, но не волновался. Готовился говорить, и нечего было ему сказать. Ощущал порыв наития, из которого не выходило ничего. Наконец, погружался в туманную истому, отдавался ленивой неге, тому неопределенному благодушию, которое охватывает тело, растянувшееся в минеральной ванне.
Задумывался над судьбой женщин, изредка рассеянных вокруг него на стульях. Бедные черные косынки, жалкие рюшевые шляпки, печальные пелеринки, скорбные капли четок, струящиеся в сумраке!
Одни, в трауре, стенали все еще безутешные, другие сгибались, склонив на бок голову, иные молились, вздрагивая плечами, закрыв руками лицо.
Кончилась дневная тягота. Излишества жизни вопияли о пощаде. Повсюду коленопреклоненное горе. Богатые, довольные, счастливые не молятся вовсе. В церквах увидишь только бесстрастных старух, женщин или вдовых, или покинутых или терзаемых дома, просящих о лучшей доле, о том, чтобы утишились неистовства мужей, исправились порочные дети, окрепло здоровье любимых существ.
Расцветает истинный букет страданий, скорбный аромат которых, подобно фимиаму, возносился к Богоматери.
Немногие из мужчин приходили на это свидание, в котором укрывалось горе, и совсем мало юношей, не истерзанных еще судьбой. Лишь несколько старцев и недужных, которые плелись, опираясь на спинки стульев, да маленький горбун, которого Дюрталь видал здесь всякий вечер, обездоленный: его могла любить только одна, которая выше телесного!
Пылкое молитвенное настроение охватывало Дюрталя при виде несчастных, сходившихся просить у неба частицы той любви, в которой отказывали им люди. И он, не могущий молиться за самого себя, сливался с их молениями, молился за них!
Церкви, столь безразличные после полудня, по вечерам облекались истинною убедительностью, дышали неподдельной нежностью. Казалось, что они волнуются, когда наступает ночь, и сострадают в своем уединении мукам болеющих существ, внимая произносимым теми жалобам. Не менее трогательное впечатление оставляла ранняя обедня, обедня работниц и служанок. За ней не бывали ни ханжи, ни любопытные, только бедные женщины, которые домогались в причастии почерпнуть силу, чтобы нести бремя тяжкого труда, унизительных услуг. Уходя из храма, они знали, что они живой сосуд Господень, и что лишь в их убогих душах радуется Тот, кто в неизменном уничижении пребывал здесь на земле. Они сознавали себя его избранницами, не сомневались, что, вверяя им под видом хлеба воспоминание о своих страстях, Он требует взамен, чтобы они оставались смиренными и печальными. И что тогда для них тягости дня, который протечет в постыдночестной низменной работе!
Понятно, думал Дюрталь, вот почему аббат так настаивает, чтобы я посещал церкви в эти утренние или поздние часы — единственные, в сущности, когда раскрывается душа.
Но, ленясь бывать часто за раннею обедней, он довольствовался послеобеденными скитаниями по церквам. В общем выходил умиротворенным, даже когда молился плохо или не молился совсем. Но выпадали, наоборот, вечера, когда, утомленный уединением, безмолвием, мраком, он покидал Сен-Сюльпис и направлялся к Нотр-Дам-де-Виктуар.
Унылого отчаяния жалких бедняков, которые, доплелись до ближней церкви, и опускались на колена в темноте, не было в этом ярко освещенном храме. Богомольцы приносили Богоматери животворность упования, веру, смягчающую скорбь, горечь которой растворялась во взрывах надежд, в струившемся вокруг нее лепете боготворения. Два течения пересекали это убежище: одно из людей, испрашивавших прощения, другое из тех, которые, получив его, источали благодарение, стремились выразить признательность. Церковь обладала особым обликом, скорее радостным, чем печальным и, несомненно, более пылкими, менее грустным, чем другие храмы.
Она выделялась еще тем, что в ней бывали очень многие мужчины. Но под ее сенью ютились не столько святоши с бегающим взором и белесоватыми глазами, сколько люди всевозможных общественных слоев, богомольцы, не носившие на лице презренного отпечатка ложного благочестия. Только там встречались лица ясные, с откровенным выражением. А главное, никогда не возникала скверная гримаса участника католических кружков, истинный дух которого пробивался сквозь дурно наложенную елейность очертаний.
В церкви, покрытой приношениями по обету, выложенной до самых сводов мраморными надписями, прославляющими радости дошедших молитв и обретенных благодеяний перед алтарем Пресвятой Девы, где сотни свечей вонзали в воздух синевшие фимиамом золотистые свои острия, творилась каждодневно в восемь часов вечера общая молитва. Священник перебирал на кафедре четки, потом исполнялись литании во славу Девы Марии, своеобразный музыкальный набор, составленный неведомо из чего, очень ритмичный, беспрерывно меняющий тона. Быстрый и потом вдруг угрюмый, на миг пробуждающий туманное воспоминание церковных песнопений XVII века и крутым изгибом впадающий в мелодию шарманки, современную, почти пошлую.
И, однако, каким пленительным было это нестройное смешение звуков! После «Кирие Элейсон» и начальных призывов Мадонну окружал ритм пляски. Но музыка делалась странно благоговейной после того, как раскрыты были некоторые свойства Девы, возвещены некоторые ее символы. Она замедлялась, затихала, трижды изъяснив тем же мотивом некоторые ее свойства, между ними «Refugium Peccatorum» [28], - потом вновь устремлялась прежним темпом и вновь изливалась весельем.
Если не бывало проповеди, то сейчас же начиналась вечерняя молитва.
Силами хоровых отбросов — одного простуженного баса и одного-двух гнусавых детских голосов — исполнялись литургические песнопения: «Inviolata», этот гимн медлительный и жалобный, мелодия непорочная и растянутая, такая изнеможденная, такая хилая, что, казалось, ее могут петь лишь убогие. Затем «Parce Domine» [29] — антифон, столь умоляющий и скорбный, и, наконец, отрывок из литургии Фомы Аквинского, уничиженный и задумчивый, медленный, благоговейный.
Хору оставалось скрестить руки и умолкнуть, когда звучали первые органные аккорды и начиналась мелодия древних песнопений. Воспламенялись верующие, подобно свечам, связанным между собой нитью, и, предводимые органом, сами воспевали смиренные напевы. Коленопреклоненные, виднелись они на скамеечках или, распростертые на плитяном полу и, когда после обмена антифонов и ответствий, после «Помолимся», священник с белой шелковой перевязью, облекавшей плечи его и руки, восходил к алтарю, чтобы взять дароносицу, то словно дуновение проносилось при торопливом прозрачном звоне колокольчиков и склоняло в единый миг все головы.
В целостном самозабвении воспламенялись эти души, застывали в неслыханном молчании, пока еще раз не призывали прерванную жизнь замедлившиеся колокольчики осенить себя большим крестным знамением и продолжать свой путь.