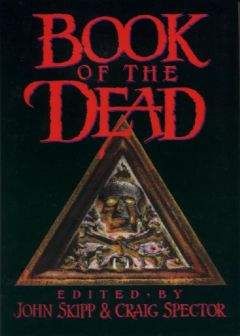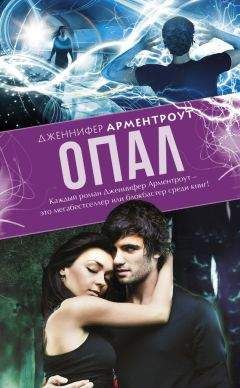Эрве Базен - И огонь пожирает огонь
Мария не лжет. Куда девались Легарно? Сколько времени их не будет? Полнейшая тайна. Да и вообще, могут ли они вернуться? А если не вернутся, чего стоит это убежище? Тут уж никакой тайны нет. Приключению придет конец. Правда, Мануэль и Мария уже смирились с худшим. Ведь спасение от зла — в его переизбытке, а тогда, если ты жив, это уже чудо. Но что с Мануэлем? Он даже повеселел и, надо сказать, изрядно фальшивя, что-то напевает себе под нос, пересматривая свои записки. А что с Марией? Она даже хихикнула, когда на экране телевизора, в который уже раз, появились лица, знакомые миллионам молчащих друзей, но также и тысячам потенциальных предателей, и комментатор зачитал список в двадцать человек, лишенных гражданства, и одиннадцать, объявленных вне закона. Когда же комментатор добавил, что вознаграждение утроено, Мария не слишком удачно сострила:
— Маловато! Вот если б вы подняли цену до миллиарда…
Чуть позже она затянула на следующее деление ремень Мануэля, объяснив ему, что Сельма ходит за покупками в субботу утром, а поскольку, как известно, на этот раз она за ними не ходила, на никелированных полках холодильника больше ничего не осталось. Потом, разрумянившись от радости, она пустилась в пляс у буфета: оказывается, все не так уж плохо — есть еще молоко в порошке, сахар и мука, и они могут поесть галет с оливками и анчоусами, поскольку на полочке под баром стоит всякая всячина, какую подают к аперитивам.
Странный день. Видимо, в сознании Марии, а возможно, и Мануэля что-то произошло — с того часа, как три чудовища, издевавшиеся над своей жертвой, напомнили им, сидевшим наверху, что счастье надо хватать, пока оно рядом. Правда, Марию время от времени все же захлестывали угрызения совести.
— Мы вот тут шутим, а в эту минуту бедняжка Фиделия…
И она опускала ресницы, тихонько вздрагивала. Но, в сущности, это была другая, настоящая Мария, которая вдруг раскрылась перед Мануэлем, точно сбросив с себя покров — так когда-то в пасхальную ночь викарии стягивали покрывало с выплывавших из церкви статуй святых. Словно оправившись после тяжелой болезни, оживленная, юная, с сияющими глазами, она что-то лопотала, загадывала ему загадки, шарады, придумывала всевозможные игры.
— Прорицательница предсказала Цицерону, что он умрет в сорок третьем году до рождества Христова? Могло быть такое, Мануэль?
— Ей-богу, по-моему, дата верная… — попался он на крючок.
— Дата-то верная, — сказала Мария. — Но вы полагаете, что прорицательница за сорок три года до рождества Христова могла вести отсчет от эпохи христианства?
И так далее и тому подобное… Она задавала Мануэлю десятки подобных вопросов, пока готовила обещанные галеты, засовывала их в духовку, потом подавала с пылу с жару на стол, и, надо признать, они оказались вполне съедобными. Взметывая юбкой, Мария порхала по комнате. Она появлялась то перед Мануэлем, то позади него, закрывала ему руками глаза, спрашивала:
— Кто это?
И Мануэль, обернувшись, обнаруживал на спинке стула большую марионетку Вика, которая смотрела на него черными блестящими глазами, сделанными из пуговиц от ботиков. Разумеется, очень скоро Мария оказалась у него на коленях, и его руки обвились вокруг нее, словно удав вокруг газели. Она высвободилась, слегка задыхаясь после пахнущего анчоусами поцелуя, и, глядя в потемневшее лицо Мануэля, сказала:
— Полноте, Мануэль! Когда закон становится законом джунглей, быть объявленным вне закона — больщая честь.
Потом посерьезнела и принялась обсуждать, куда им лучше уехать; желательно, конечно, чтобы это была страна испанского языка — тогда они оба могли бы работать; она — секретаршей, он — учителем, как когдато.
— Мексика! — мечтательно протянул Мануэль. — У меня есть друг в Акапункте, что у подножия Найаритских гор. Я был там однажды, когда в Мексике проходил педагогический конгресс.
Мария повторила «Акапункта», как прошептала бы «Сезам». Казалось, она уже не сомневалась в будущем, ее волновали чисто бытовые проблемы. Она пыталась понять, чувствует ли Мануэль себя способным жить как частное лицо, бросить дело, за которое он так долго боролся.
— Естественно, Мануэль, вы будете делать то, что захотите…
Уже наступил вечер, а Мария все говорила и говорила. Лишь часам к десяти она чуть сникла, вернее, стала предоставлять тишине заканчивать за нее фразы.
— Вы хотите двоих детей? — вдруг спросила она, потирая от усталости глаза.
Детей? Но Мануэль никогда об этом не думал. Он не отрицал того, что каждый обязан отдать жизни долг, расплачиваясь за свое появление на свет. Но для тех, кто посвятил себя борьбе за другую, лучшую жизнь для всех, давать ее новому существу — дело не первостепенной важности. Эти люди совсем не торопятся повторять себя в детях, чтобы обречь их на существование в мире, который сами осуждают. Не зная, что значит быть сыном, Мануэль привык скорее быть братом, окруженным теплом друзей, и, хотя при этом он ощущал свою обделенность, свое одиночество, тем не менее не решался ответить себе на вопрос, слабее или сильнее становится человек, обзаведясь семьей. Правда, семья — единственная клеточка, где кровь каждого течет в жилах других! Чтоб Мария родила ему… А почему бы и нет! Там видно будет. Отчего же не двоих? По одному на каждую юную грудь, вздымающуюся под корсажем Марии.
— Девочка или мальчик — это безразлично! — тем временем говорила она. — Но лучше иметь не квартиру, а дом, где бы они жили…
— Прошу вас, Мария! — взмолился будущий отец.
— О чем вы, Мануэль?
— Не будем забывать о первом этапе.
Оба улыбнулись: дети сами собой не являются на свет. Мария выдержала взгляд заблестевших глаз Мануэля. И прошептала:
— Уже поздно, Мануэль. Я пойду спать.
* * *Она спит внизу, в комнате для гостей, превращенной в комнату для служанки: нужно, чтобы все выглядело правдоподобно, да и потом, здесь она чувствует себя менее скованно, чем там, в убежище.
Она спит в одиночестве, в то время как наверху Мануэль не может сомкнуть глаз, и крутится, и вертится, точно она, как и раньше, лежит рядом с ним на надувном матрасе, до которого можно дотянуться рукой, — соблазнительная и недоступная. Конечно же, не следовало ему при ней нажимать на кнопку автоматической лестницы. Следовало пойти за нею…
Следовало бы. Но он не посмел. Он прекрасно понимает, откуда у него эта скованность: чего ждать от сироты, прожившего сначала в четырех стенах прию— та, потом в армии, потом в педагогическом институте, потом в окружении учеников, товарищей, коллег; чего ждать от тридцатисемилетнего мужчины, все отношения которого со слабым полом ограничиваются жалкими воспоминаниями о минутах, проведенных в гостиничных номерах. А понятие «девушка» для него и вовсе незнакомо. Даже самый просвещенный человек может быть профаном в таких делах.
Мануэль встает и прижимается бровью к наблюдательному глазку. Ночь своей сероватой чернотой, усеянной мелкими светлыми пятнышками, походит на старую копировальную бумагу. Сверкают лишь самые крупные звезды, на юге огнем полыхает Канопус. Под ним — едва заметная красноватая точка, у которой наверняка нет названия на карте неба и которую Мария нарекла в честь своей покойной матери — Эннис.
«Она глядит на вас!» — сказала Мария как-то вечером.
Сюсюканье? На первый взгляд, да. Поначалу это его раздражало. Потом он изменил свое мнение. Теперь ему даже необходимо слышать от нее подобные вещи. Теперь он мог бы ответить «да» на вопрос, который задала ему Мария при выходе из больницы:
«Вы способны забыть о сенаторе? Для меня это важно».
В тот день на ней было серое платье с темно-красным поясом, воротником и манжетами. Опираясь на две палки, она толчками двигала перед собой толстую, закованную в гипс ногу, испещренную синими, черными, зелеными или красными надписями, — это ее друзья поставили на гипсе свои имена.
«Да, я рыжая, — объявила она, заметив, что Мануэль смотрит на ее волосы, — потому что мама у меня была ирландка! Этим объясняется и все остальное…»
Ни отец, ни мачеха не приехали взять ее из больницы, и этим тоже кое-что объяснялось. Зато Мануэль был рядом, сознательно пропуская ради нее заседания сената и уже понимая, что на сей раз речь идет не о легкой интрижке; да и Мария тоже прекрасно это понимала — недаром пятью минутами позже, сидя в той самой машине, колесо которой проехало по ее ноге и которая сейчас везла ее домой, она звонким голосом, появляющимся у нее всегда в минуты волнения, признается:
«Вы должны отдавать себе отчет в том, что с нами происходит, Мануэль: ведь у нас нет ничего общего, кроме желания быть вместе».
Ничего общего? Это еще неизвестно. Обездоленная юность, жажда реванша, тяга к партнеру, уважение к его способностям в сочетании с некоторым презрением к его интересам — такое сродство не сбросишь со счетов. Схожесть характера, схожесть устройства — так стыкуются и люди, и вагоны, независимо от того, что они в себе содержат; важно лишь, каким силам подчиняется их страсть, их движение.