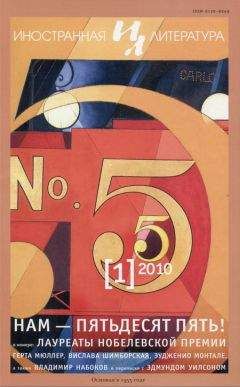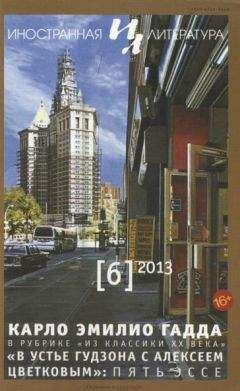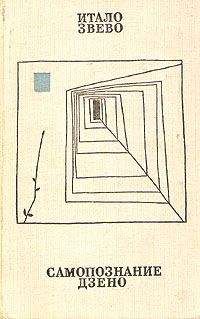Эудженио Монтале - Динарская бабочка
Завершив расследование, Клиция вышла на вокзальную площадь. Фибровый чемоданчик был легким, но жег, как крапива, и без того горячую руку. Летом в местных барах неуютно из-за эскадрилий огромных мух, хищно набрасывающихся на посетителей и на съестное. А Клиция уже выписалась из гостиницы. Почувствовав себя потерянной, она бы впала в отчаяние, если бы не спасительная зеленая афиша на стене. В парадном зале муниципалитета (Клиция тут же вообразила прохладное помещение с удобными мягкими креслами) знаменитые профессора Добровский и Петерсон из Луизианского университета в Бэтон Руже и из Института Аватары в Чарльстоне (штат Южная Каролина) проведут содержательный диспут о метемпсихозе. При готовности кого-либо из слушателей принять участие в практических опытах, представляющих большой интерес, афиша обещала такие опыты. Вход стоил недорого.
Вскоре Клиция переступила порог здания, вестибюль которого украшали чахлые лимонные деревья в кадках и ветки пинии. Указательные стрелки привели ее к залу. Под его тенистым сводом она сразу почувствовала облегчение. В зале было человек пятнадцать, и все они предусмотрительно заняли места подальше от двух ораторов, уже сидевших в ожидании за столом; один из этой двоицы был лысый, тощий, в очках, в черном костюме, другой — тучный, рыжеватый, в шортах и рубашке из шелка-сырца.
Между рядами, предлагая приобрести брошюры, ходил служитель, а может быть, последователь двух светил. Клиция купила одну брошюру. Рисунок на первой странице изображал Пифагора в храме Аполлона в Бранхидах. Рука Пифагора выглядывала из рукава паллия, указывая на щит на стене. От его умного мужественного лица — такого же, как у обступивших его юношей — отходило белое облачко с надписью крупными буквами: «Вот щит, которым я пользовался, когда был Евфорбом и меня ранил Менелай»[98].
Дальше в брошюрке шло подробное описание этого эпизода и содержались сведения о жизни и учении великого философа. Клиция прочла две-три страницы. Ее воодушевление неофита постепенно улетучивалось по мере того, как прохлада в зале отступала под натиском зноя и в проемах открытых настежь окон стали появляться тучи грозных мух.
Она пересела на несколько рядов дальше, в самый темный угол, прячась от испытующего взгляда профессора Петерсона, в результате чего постепенно утратила связь с внешним миром и не без удовольствия погрузилась в черную топь.
Сначала ей показалось, что в мире больше не существует силы притяжения. Она чувствовала себя легкой, пружинящей на восьми длинных ногах с мягкими волосками на конце, которые придавали мягкость каждому шагу, если можно так сказать, поскольку ее движение обеспечивали не столько шаги, сколько слагаемые шагов, направляемых то одной, то другой ногой, причем размеренное перемещение происходило самопроизвольно, и ей не приходилось утруждать себя, чтобы дать ему импульс или направление. Она видела мир в горизонтальной, а не в той вертикальной перспективе, в какой, если ей не изменяла память, видит его человек, держащийся на двух ходулях и передвигающийся под прямым углом к земле. Этому новому видению, несомненно, способствовало положение ее тела, наклоненного вперед и равномерно распределившего вес между двумя опорами, точно солдат по команде «вольно», а также странное расположение восьми, как и ног, глаз, посаженных полукругом вокруг головы, благодаря чему — явление, не известное людям, — она охватывала единым взглядом значительную часть окружающей равнины, что усугубляло ее ложное представление о пространстве и о свободе. Из восьми глаз два были словно затуманенные, несколько близорукие днем, но и в этом Клиция увидела возможность почувствовать себя еще более свободной: действительно, едва опустился вечер, они активизировались, осветив потемки, чтобы ей легче было ткать паутину.
У нее была прекрасная, прочного плетения паутинная сеть, — лучшая из всех, какие она обнаружила на четырех облицованных белым мрамором стенах дворика, в центре которого днем и ночью, распыляя брызги над слоем пушистого мха, пел маленький фонтан. Иногда во дворике гулял юноша в белом (интересно, где она могла видеть его раньше?); в согнутой руке, выпростанной из рукава паллия, он держал книгу, которую читал, расхаживая по галерее, отрешенный от всего на свете, кроме этой книги. Случалось, он останавливался и внимательно разглядывал паутину. Однажды юноша пришел даже ночью посмотреть на ее шедевр, и Клиции показалось, что он оценил то, как блестела в лунном свете роса вдоль тонкого края плетения. Пока юноша любовался работой, его огромное лицо не теряло выражения глубокой сосредоточенности. Казалось, сеть была продолжением его мыслей, проникала на страницы книги, которую он читал на ходу во время прогулок в галерее с утра до вечера.
Иногда юношу с умным лицом навещали другие молодые люди. Вместе с ним они садились у фонтана или на парапет галереи, нередко под самой капителью, где жила Клиция. Они разговаривали, листали книги и пергаменты, и возникавшее при этом движение воздуха достигало паутины, заставляя ее колыхаться, отчего на мгновение оживали пойманные в сеть и обессиленные сопротивлением агонии мухи (что-то в слюне паука отнимало у них жизненные силы, судя по тому, как быстро они смирялись со своим положением жертвы, которую оставалось только обхватить ногами и высосать). Бывало, юноши трапезничали, и после их ухода паук спускался, чтобы сделать своей добычей крошки, крупинки, а порой и приторно-сладкие кожурки. И вот однажды, в жаркий день, он заметил внизу, на парапете, ряд блюдец, полных светлой гущи со сладким запахом. Он повис на своей паутине и, движимый непомерной жадностью, устремился вниз по все удлинявшейся паутинной нити; с гордостью, с упоительным восторгом он смотрел, как она вытягивается над ним, такая блестящая и крепкая. Когда он понял, что происходит, было уже слишком поздно, его страшная судьба была решена. Светлый густой нектар ухватил его за мохнатую спину, он завертелся, попробовал вырваться, выплюнул всю свою слюну, чтобы, укрепив ею нить, попробовать вернуться восвояси. В результате этих усилий в плену оказалась его голова, а вскоре в липком болоте утонула и одна из ног. Тошнотворный приторный запах сгущался над ним, тело начинало деревенеть. В порыве крайнего отчаяния, полный бесконечного отвращения, он запрокидывал голову, чтобы ускорить смерть, когда чья-то рука мягко легла ей на руку и разбудила Клицию.
Она увидела над собой человека в шортах и человека в черном костюме.
— Синьора, — сказал первый, — вы представляете собой исключительный объект. Соблаговолите подняться на кафедру и рассказать свой сон. Позвольте узнать, как вас зовут, какая у вас профессия. Не расскажете ли что-нибудь о себе? И об этом городе. Вы здесь работаете, учитесь, или вас привело сюда путешествие?
— Нет, я пою, — сказала Клиция, лишь бы что-то сказать (действительно она часто напевала наедине с собой).
— Дамы и господа! — возгласил на ужасном итальянском проф. Добровский, обращаясь к публике. Возможно, мы имеем дело с реинкарнацией Малибран[99] или божественной Сапфо. Впрочем, нет. Сие невозможно: это был бы слишком резкий скачок во времени. Не скажете ли, синьорина, кем вы видели себя во сне? Этот сон должен открыть, кем вы были в предыдущей жизни. Не смущайтесь, говорите свободно.
Клиция посмотрела вперед и обнаружила, что пятнадцать человек, сидевшие в зале сначала, превратились в добрые тридцать.
— Вроде бы, — растерянно сказала Клиция, охваченная чувством, близким к чувству оскорбленной добродетели, — вроде бы, мне приснилось, что я паук, да, паук в доме Пифагора, во всяком случае, кажется, я узнала его в лицо.
Публика расхохоталась, а профессор Добровский покраснел до ушей.
— Синьора, — возмутился он, — вы издеваетесь над наукой, вы недостойны той легкости, с которой на вас подействовал мой гипноз. Да вы представляете себе, какой бы уровень развития потребовался, чтобы одним махом перейти из стадии паука в стадию человека? Я серьезно спрашиваю, отвечайте: кем вы видели себя во сне?
— Пауком в доме Пифагора, — повторила Клиция под издевательский смех публики, а тем временем профессор Петерсон за руку вел ее к двери, убеждая никогда больше не участвовать в опытах, слишком серьезных для нее.
Она вышла, почти выбежала на улицу, стискивая ручку чемоданчика, издала короткую горловую трель, чтобы почувствовать, что она жива, и посмотрела на часы. До отхода поезда оставалось пятнадцать минут. Для нее день в Фодже закончился.
НЕУГОМОННАЯ
Весть, что Джампаоло женился на синьоре Дирче Ф., дважды вдове, да к тому же и много старше его, не вызвала в городе недоброжелательных толков. Жилось ему трудно, и теперь, когда он в кои-то веки устроился (пусть даже ценой неизбежного отказа от свободы распоряжаться собой), многочисленные друзья порадовались за него, и ни один не позволил себе съехидничать, будто Джампаоло просто-напросто «женился на деньгах». За свадьбой последовали пышные приемы с банкетами, после чего жизнь супругов немного отодвинулась в тень. О них еще говорили — правда, довольно уклончиво. Говорили, что Джампаоло «работает» — над чем и в какой области, было покрыто неизвестностью — и что Дирче создала мужу земной рай. Так или иначе, было очевидно, что супружеская чета живет несколько обособленно. Люди, которые рассказывали про них, признавали, что виделись с ними скорее давно, чем недавно, и, хотя восхваляли изысканность яств, собственноручно приготовленных синьорой, и редкую широту ее гостеприимства, явно не торопились с проверкой своего впечатления, готовые отложить sine die[100] повторный визит. Осторожные слова не были открытым порицанием, как не были и откровенным одобрением, и все же зачастую на лице говорившего: «Синьора Дирче… Джампаоло… обворожительная пара…» — читались смущение и нежелание вдаваться в подробности.