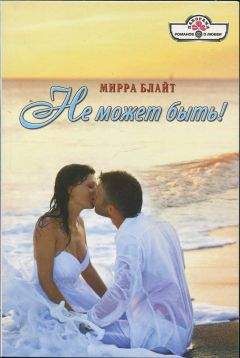Макс Бирбом - Зулейка Добсон, или Оксфордская история любви
Греддон не слишком вслушивался в этот рассказ. Он уже столько раз его слышал в этой комнате, а современные сантименты его озадачивали. Нелли была ужасным милым созданием. Он ее обожал, и он с ней покончил. Он соглашался с уместностью тоста, который «Хунтa» поднимала за нее каждый раз после обеда, — «за Нелли О’Мора, чародейку красивее всех, что были и будут». Греддон возмутился бы, если бы тост забыли. Но ему опротивели бесконечные жалостливые, растроганные взгляды, обращенные к ее портрету. Нелли была красивой, но, боже! такой тупицей и простофилей. Разве мог он растратить с ней жизнь? И, боже, почему эта дурочка не вышла за Трейлби из Мертона, дурака, которого он, Греддон, к ней привозил?
Моральные устои мистера Увера и благородство его духа были американские: куда лучше наших и выражались намного ярче. Английские гости «Хунты», услышав рассказ про Нелли О’Мора, ограничивались тем, что бормотали «бедняжка!» или «как жаль!»‚ но мистер Увер тихим и уверенным тоном, заинтересовавшем Греддона, сказал:
— Герцог, надеюсь, я не нарушу законов, управляющих отношениями гостя и хозяина. Но я, герцог, решительно заявляю, что основатель этого отменного старинного клуба, в котором вы сегодня оказали мне такой радушный прием, был отъявленным мерзавцем. Я бы сказал, он не был белым человеком.
Услышав слово «мерзавец», Хамфри Греддон вскочил, выхватил шпагу и, никем кроме себя самого не услышанный, потребовал от американца ответить за свои слова. Поскольку сей господин не принял его во внимание, Греддон метким прямым ударом пронзил его сердце, вскричав:
— Умри, презренный псалмопевец и очернитель! Смерть мятежникам против короля Георга![58]
Вынув лезвие, Греддон изящно вытер его батистовым платком. На платке не было крови. Непроткнутый мистер Увер повторял:
— Я бы сказал, он не был белый человек.
Греддон опомнился: вспомнил, что он только призрак, бесплотный, бессильный, незначительный.
— Увидимся завтра в аду! — прошипел он в лицо Уверу.
Тут он ошибался. Увер определенно попал в рай.
Не имея возможности за себя отомстить, Греддон посмотрел на герцога, ожидая, что тот выступит его заместителем. Увидев, что герцог лишь улыбнулся Уверу и сделал неопределенный примирительный жест, Греддон во гневе снова забыл свое ущербное положение. Выпрямившись во весь рост, он с крайней тщательностью взял понюшку табаку и, наклонившись к герцогу, сказал:
— Премного вашей светлости обязан за то, с какой великой смелостью вы отстаиваете честь вашего преданнейшего, вашего наипокорнейшего слуги.
Смахнув с жабо крупицу табака, он повернулся на каблуках и лишь в дверях, где через него прошел слуга с двумя графинами, заметил, что не испортил герцогу вечер. Разразившись ужасными проклятиями образца восемнадцатого века, Греддон возвратился в преисподнюю.
Герцога Нелли О’Мора никогда особенно не трогала. Он много раз пересказывал ее легенду. Но, не зная любви, он не постигал ни ее восторга, ни ее страданий. Будучи желанной добычей всех мудрых дев Мейфэра, он всегда считал — если вообще об этом задумывался, — что Нелли погибла из-за неудовлетворенных амбиций. Но сегодня, рассказывая про нее Уверу, он заглядывал в самую ее душу. Однако он ее не жалел. Она любила. Она познала то единственное, ради чего стоит жить — и умереть. По пути к мельничному пруду она была охвачена тем же восторгом самопожертвования, который он пережил сегодня и почувствует завтра. И некоторое время — целый год — она знала радость взаимной любви, была для Греддона «чародейкой красивее всех, что были и будут». Герцог не соглашался с длинными рассуждениями Увера о ее страданиях. Поглядывая на знакомую миниатюру, он размышлял, чем же Нелли О’Мора так пленила Греддона. Он был в том блаженном состоянии, когда невозможно поверить, что прежде дамы твоего сердца по земле ступала хоть одна поистине красивая или желанная дама.
Пришло время убрать со стола скатерть. Обнажилось красное дерево «Хунты» — темное прозрачное озеро, в его тихих и румяных глубинах тотчас отразились канделябры, фруктовые вазы, стройные бокалы и кряжистые графины, штрафная шкатулка и табакерка, и другие принадлежности достойного десерта. Ясно и неколебимо отразились в глубинах эти достойные предметы; после того, как разлито было вино, герцог поднялся и произнес первый из двух традиционных тостов «Хунты»:
— Господа, выпьем за Церковь и Государство.
После того как тост был всеми поддержан — особенно любезен был Увер, несмотря на серьезные мысленные оговорки с точки зрения Питтсбургского анабаптизма и республиканских принципов, — по кругу была передана табакерка и отведан фрукт.
Затем, когда вновь разлили вино, герцог встал и с поднятым бокалом сказал:
— Господа, выпьем за… — и умолк. Он постоял молча, нахмуренный, раскрасневшийся, после чего демонстративно наклонил бокал и пролил вино на ковер. — Нет, — сказал он, — не могу поднять тост за Нелли О’Мора.
— Почему? — охнул сэр Джон Марраби.
— Вы имеете право на этот вопрос‚— сказал герцог, все еще стоя. — Могу только сказать, что долг перед совестью для меня важнее долга перед обычаями клуба. Нелли О’Мора, — сказал он, проведя рукой по лбу, — в свое время, возможно, была чародейкой красивей всех, что были, и основатель наш не беспричинно подумал, что красивей чародеек не будет. Но пророчество его не сбылось. Так, по крайней мере, представляется мне. С таким убеждением, конечно, для меня невозможно оставаться президентом клуба. Маккверн… Марраби… который из вас вице-президент?
— Он, — сказал Марраби.
— В таком случае, Маккверн, вы назначаетесь президентом на освобожденное мною место. Займите кресло и произнесите тост.
— Я, пожалуй, воздержусь, — сказал, помолчав, Сам Маккверн.
— Тогда, Марраби, вы.
— Не я! — сказал Марраби.
— Это почему? — спросил герцог, переводя взгляд с одного на другого.
Сам Маккверн из шотландской осторожности смолчал. Но порывистый Марраби — в БНС прозванный Марраби-маниаком — сказал:
— Потому что не могу солгать! — и, вскочив, поднял бокал и воскликнул: — Выпьем за 3yлейку Добсон, чародейку милее всех, что были и будут!
Мистер Увер, лорд Сайес, мистер Трент-Гарби тоже вскочили; поднялся Сам Маккверн.
— Зулейка Добсон! — прокричали они и опустошили бокалы.
Усевшись, они погрузились в неловкое молчание. Герцог, все еще стоявший подле своего кресла, был мрачен и бледен. Марраби позволил себе вопиющую бесцеремонность. Но «член „Хунты“ не ошибается», потому возмущаться бесцеремонностью нельзя. Герцог винил себя, выбравшего Марраби в клуб.
Мистер Увер тоже был мрачен. Как любитель древностей он сожалел о внезапном нарушении славной оксфордской традиции. Как благородный американец он был возмущен неуважением, проявленным к мисс О’Мора, прекрасной жертве феодализма. В то же время как Авимелех В. он был рад словом и делом почтить непревзойденную в этом мире женщину.
Глядя на покрасневшие лица и вздымавшиеся манишки, герцог забыл проступок Марраби. Ему сейчас важнее было то, что перед ним пятеро юношей, совершенно околдованных Зулейкой. Если возможно, их следует спасти. Он знал о силе своего влияния в Университете. Он знал и о силе влияния Зулейки. Он мало надеялся на успех. Но его подстегивало новорожденное чувство долга перед товарищами.
— Есть ли среди вас, — спросил он с горькой улыбкой, — тот, кто не любит всем сердцем мисс Добсон?
Ни одна рука не поднялась.
— Этого я и боялся, — сказал герцог, не ведая, что в поднятой руке увидел бы личное оскорбление. Ни один по-настоящему влюбленный не простит другому, что тот не разделяет его страсти. Его собственная ревность из-за того, что любимая предпочитает другого мужчину, едва ли будет сильнее ревности, которую он чувствует, когда любимой предпочитают других женщин. — Вы ее знаете только в лидо, только понаслышке? — спросил герцог. Те подтвердили.
— Познакомьте меня с ней, — сказал Марраби.
— Вы сегодня все идете на концерт в Иуде? — пропустив слова Марраби мимо ушей, спросил герцог. — Вы все достали билеты? — (Они кивнули.) — Чтобы слушать меня или смотреть на мисс Добсон? Вполголоса ему ответили:
— И то, и то.
— И все, подобно Марраби, хотели бы с этой дамой познакомиться? — (Глаза их расширились.) — Думаете, это путь к счастью?
— К черту счастье! — сказал Марраби.
Это замечание показалось герцогу глубоко разумным, содержащим суть его собственных чувств. Но то, что верно для него, не верно для всех. Он считал, что среднестатистическому человеку лучше всего следовать обычному порядку вещей. Так что он медленно и спокойно повторил то же, что несколькими часами раньше сказал двоим юношам в Солоннице. Не зная, что слова его успели разнестись по всему Оксфорду, он весьма удивился когда они, кажется, не произвели впечатления. Его призыву держаться подальше от сирены тоже никто не внял.