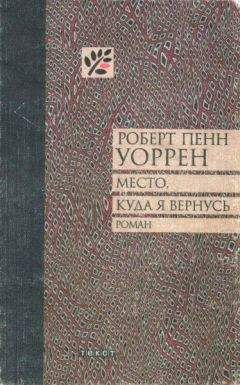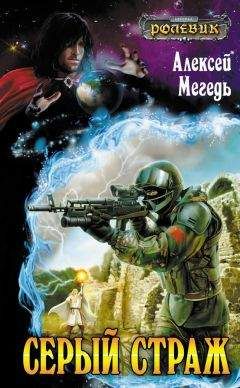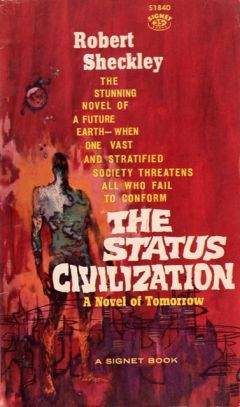Роберт Уоррен - Потоп
Она прислонилась спиной к двери, держа обеими руками ручку, и снова повернулась к окну. Потом сдержанно спросила:
— Ты меня возненавидел? За то, что я заставила тебя это сделать? И теперь ненавидишь?
— Может, я должен сказать тебе спасибо, — мрачно ответил он. Потом старательно натянул простыню до самого подбородка и уставился в потолок. — Чёрт, я ведь кое-чего добился. Если бы я продолжал ту возню, я бы, наверное, так и не попал в Калифорнию.
Ему захотелось, чтобы она поскорее ушла.
— Я рада, что ты приехал, — донеслось от двери. Потом он услышал, как дверь хлопнула.
Дверь едва успела закрыться, как она без стука приотворила её снова и просунула голову в щель.
— Вставай, — приказала она. — Вчера ты обещал повести мистера Джонса в церковь, поторопись.
Она снова затворила дверь.
В церковь, — подумал Бредуэлл Толливер.
Да, он пообещал свозить Яшу Джонса в здешнюю церковь. Это, объяснил он ему, будет неплохим началом.
Церковь, — думал он не двигаясь. Он ни разу не был в церкви, в этой церкви, в той единственной, которая была для него церковью со смерти отца.
Тогда была ночь, ночь перед похоронами, когда он приехал в Фидлерсборо. Он вошёл, в прихожей было полутемно и пусто. Поставил чемодан и почувствовал запах цветов из библиотеки. Он туда вошёл. Сестра стояла совсем одна посреди комнаты и плакала. Она заметно выросла. Сформировалась.
И была совсем одна в полутёмной комнате.
Она подошла, взяла его за руку и подвела к гробу.
— Погляди, сказала она. — Теперь он уже маленький.
Да, Лэнк Толливер больше не был высоким. Теперь уж ему не стоять посреди комнаты — высокому, с торчащими чёрными волосами, такими жёсткими и густыми, что чесать их в пору хоть скребницей, — теперь уж не дёргать себя за длинный чёрный ус и не сверкать глазами. Не топать сапогами, вымазанными в коровьем навозе, и, хоть он и таскал в заднем кармане не меньше двух тысяч долларов, он по-прежнему выбивал этими сапогами ножку у стола и плевал на ковёр.
— Ну почему ты его так ненавидел? — спросила она.
Что он мог ей ответить, если вдруг понял, что сам этого не знает?
— Как ты можешь его ненавидеть, — с болью закричала она, — если он теперь такой маленький? Погляди, как он усох!
Она кинулась ему на шею. Он не помнил, чтобы она когда-нибудь делала это раньше. Но он и знал-то её мало, ведь так давно не жил дома.
Он стоял в полутёмной комнате, где так пахли цветы, почему-то напоминая ему запах детской рвоты, похлопывал её по плечу и старался утешить.
Да, она здорово выросла.
А теперь он лежал на спине, решив, что через минуту встанет и пойдёт в церковь, и вспоминал то давно прошедшее время. Он подумал о том, как приходила сестра и что только такой хам, как он, да ещё с перепоя, мог заметить, что у неё всё ещё красивые ноги, особенно не видав её чуть не шестнадцать лет. Он поразмыслил, является ли восхищение ногами сестры кровосмесительным.
Весьма поэтичный сюжетец, — подумал он. — Именно это Шелли и называл кровосмешением.
Ха, — думал он, осклабившись, насколько позволяла боль в голове, — что можно Шелли, позволено и Бредуэллу Толливеру в Фидлерсборо.
Ха, думал он, вот он, наш прекрасный киносценарий. Пожилой писатель — нет, писатель не первой молодости — возвращается в Фидлерсборо, видит сестру. Замечает, что любуется её ногами, выясняет, что на самом деле она — его переодетая мать, отчего всё становится на место. Финал: панорама целительных вод, на рассвете заливающих Фидлерсборо.
Нет, подумал он с комической грустью, боюсь, что Яша Джонс на это не клюнет.
Он решил, что лучше сделать ещё одну попытку встать и повести Яшу в церковь, а потом уже писать их распрекрасный киносценарий.
Но прежде чем встать, он принял ещё одно решение. Он решил, что надо остерегаться жалости к себе. Она может быть опаснее выпивки. Он уже давно поборол запои. И признался себе с присущей ему честностью, что второго порока он ещё не поборол. Ну вот, теперь пришло настоящее испытание. Если он сможет, приехав сюда, в Фидлерсборо, в этот дом, побороть этот порок, значит, он его поборол.
Он лежал и думал: Если я не смогу сделать хорошую картину, значит, я неудачник. Неудачник, и всё.
Такая мысль была новой. Раньше она не приходила ему в голову. Но он вдруг понял, что мысль эта родилась давно, твёрдая, объективная, как скала или как столб, но он её избегал. А сейчас смотрел ей в глаза. То, на что он смотрел, было холодным и сверкающим, как лёд.
Подумав: Я не хочу быть неудачником. А может, хочу? — он встряхнулся.
И поэтому встал.
Глава седьмая
Они сидели на крайней скамье, и поэтому, когда проповедь кончилась, Бреду удалось ещё до конца службы отвести Яшу в сторону. Свет падал сквозь витраж за алтарём разноцветными бликами. В неплотно прикрытое окно бокового притвора неслись пахучие запахи цветов, примятой травы и речного ила.
Наблюдая, как прихожане тянутся из церкви, Яша Джонс бормотал:
— «И водворю их на земле их, и они не будут более исторгаемы из жизни своей, которую Я дал им, говорит Господь Бог твой».
Он стоял в своём мятом сером костюме и разглядывал людей. Он и сам мог сойти за священника, думал Бредуэлл Толливер. Нет, на нём мягкий воротничок. Но дело не только в этом. Ещё и в том, как он стоит, будто его здесь нет. Он умел сохранять покой, позволяя жизни течь под его взглядом.
— Он ведь сказал, что это девятая глава? — вдруг спросил Яша Джонс. — Девятая из книги Амоса?
— Кажется.
Толпа редела, люди выходили из дверей поодиночке, прощаясь со священником за руку.
— Ну вот, вы видели, — сказал Бред Толливер. — Поглядели, как молится Фидлерсборо. По крайней мере баптисты, а других здесь и нет. Белые баптисты, точнее говоря. Были тут и пресвитериане, и кэмпбеллиты, да ещё и методисты, но не выдержали конкуренции. Методисты держались дольше всех. Мой старик их доконал. У него была закладная на методистскую церковь, и, когда во время кризиса стало туго, они либо примкнули к баптистам, либо запили горькую, отдав моему старику землевладение. Думаю, что верующие в Фидлерсборо считают, будто вседержитель поразил старика кровоизлиянием в мозг именно за то, что он пустил церковь по миру. Но серьёзно говоря, ни один баптист так не думает. Баптисты считают, что старик стал орудием всевышнего, дабы повергнуть методистов в прах. Это вернее…
Их уже дожидался священник. Высокий, худой, высохший человек в поношенном синем костюме из диагонали и крахмальном воротничке, с искажённым хронической болью или озабоченностью лицом и редкими, бесцветными волосами, его светло-голубые глаза часто мигали, словно собеседник был чересчур для них ярок. Пустой левый рукав был пришпилен к пиджаку.
— Брат Потс, — представил его Бред Толливер и протянул ему руку. — Я…
— Да, сэр, — перебил его брат Потс, — все мы вас знаем. В Фидлерсборо рады, что здешний уроженец подал наконец о себе весть. — Он обратился к Яше Джонсу: — А этот джентльмен — знаменитый кинорежиссёр. Я горжусь, мистер Джонс, что могу приветствовать вас здесь, в доме Божьем.
— Вы очень любезны, — сказал Яша Джонс. И добавил: — С удовольствием слушал вашу проповедь. Пророком Амосом у нас почему-то пренебрегают. А он снабдил вас сегодня весьма пронзительным текстом.
Голова священника чуть-чуть подёргивалась в такт словам Яши Джонса. Напряжённо прислушиваясь, он вздрагивал, вытягивал острый нос и становился похож на тощую курицу, клюющую зёрна — бесценные зёрна, которые ему кидали.
— Сейчас и время такое, что оно пронзает душу, — сказал Яша Джонс.
— О да, да, — подтвердил брат Потс, и его голубые глаза засветились благодарностью. — О да, конечно, мистер Джонс. Люди душевно встревожены, а почему — и сами толком не понимают. Правда, большинство ведь прожило здесь всю свою жизнь. Теперь им надо тронуться с места, и это их волнует. Даже если их и переселят в лучшие условия за счёт государства. И вот этот текст из Амоса…
— Он ведь тоже насчёт переселения, — сказал Яша Джонс.
— Да, переселения. Людей выдёргивают из их жизни, но если бы я смог дать им понять, что говорит заповедь Христова о переселении. Оно выдёргивает человека из жизни и переселяет в другую, в жизнь духовную. И вот если бы мне удалось направить растревоженные чувства в русло Божьего завета…
Он заглядывал в лицо Яши Джонса со смиренной мольбой.
— Точное и трогательное сравнение, — кивнул Яша Джонс.
— Знаете, когда чья-то обитель умирает, даже если просто сносят старый дом, с ним уходит большая жизнь. Кое-кто впал в отчаяние, а кто-то, наоборот, почувствовал себя счастливым и даже одурел от радости (правда, он её прячет), словно к нему вот-вот вернётся молодость или он разбогатеет. Но знаете, с кем труднее всего? С теми, кто ожесточился. У них такое чувство, будто вся их жизнь пошла насмарку. Но надо же помнить, что жизнь, которую мы прожили, ниспослана нам Господом. Возьмите, к примеру, меня. Если бы мне в двадцать пять лет сказали, что я всю жизнь проведу в Фидлерсборо…