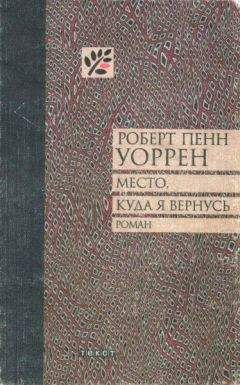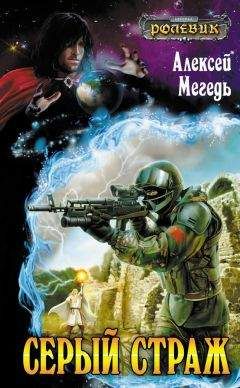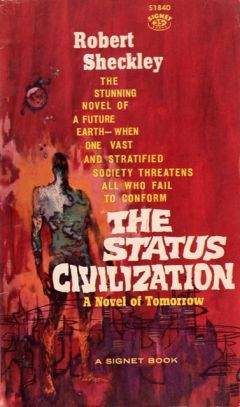Роберт Уоррен - Потоп
Он поглядел на Летицию и вдруг понял, что он её знает. Ему, как ни странно, показалось, что она вообще единственный человек, которого он знает. И от этого знания он почувствовал стыд, неловкость и какую-то пугающую причастность, словно его самого раздели. Он чувствовал свою причастность к чему-то тёмному, тёплому, глубокому, кольчатому, подвижному, вязкому, что было связано с психоанализом, в котором она призналась. Он чувствовал свою причастность, благодаря этой чешуйке сухой помады или шелушинке кожи на губе, слегка потемневшему резцу и тому, что он вдруг увидел, как она тихонько в немом непонятном отчаянии покачивает головой на белой кушетке. Ему захотелось вскочить и поскорей убежать из этого бывшего притона. Потом его одолела какая-то странная душевная растерянность, пугающая, но чем-то бесконечно милая, вслед затем он ощутил внезапный толчок, словно большой пёс, выскочив из воды, отряхнулся каскадом брызг, а потом пришло ощущение силы, новой и чем-то особенно покойной. Будущее казалось огромным яблоком, висящим в темноте, чья кожица вот-вот лопнет от спелости.
И всё это произошло в один-единственный миг.
А она ухмыльнулась снова и сказала:
— Не робейте, Бредуэлл. Это была не проказа. Просто слаба на передок.
Потом ухмылка сошла, и она поглядела на него уже серьёзно:
— Хватит об этом — о психоанализе. Давайте лучше поговорим о…
Тогда она не хотела об этом рассказывать. Такое желание пришло много позже, в его грязной полуподвальной комнате на Макдугал-стрит, когда, лёжа рядом с ним за полночь, в темноте, она в какой-то запоздалой вспышке самоанализа, который забросила уже несколько лет назад, рассказывала про свою жизнь.
В темноте она отдавала ему свою жизнь, всю как есть, всё, что о ней знала, неторопливо, смиренно, словно выполняла обряд любви и покаяния.
Она будто считала, что её, Летиции Пойндекстер, непомерно вытянутое в длину тело годится лишь на то, чтобы дарить животное тепло и удовлетворение, если не видеть этого тела в перспективе прошлого, которое привело её сюда, на Макдугал-стрит, к Бредуэллу Толливеру. А он, чьё дыхание, она слышит в темноте, скоро обнимет это тело, должен обнять, и тем самым искупит её прошлое, породив новую, настоящую Летицию Пойндекстер. Бредуэллу Толливеру надо понять всю неразбериху, всю незадачу её прошлого, потому что оно необходимая предпосылка того покоя и счастья, которые она наконец-то надеется обрести.
А самого Бредуэлла Толливера это постепенное снятие покровов возбуждало всё сильнее и сильнее; это было одной из самых изощрённых любовных уловок, на которые, как он втайне признавал, она была мастерицей. Он же с его малым, примитивным опытом мог только ещё больше перед ней благоговеть.
Но это её умение было лишь долей того, что так его в ней восхищало: её умение рассказывать о своей жизни без малейшего стыда, ходить по этой жизни, как по хорошо обжитому дому, где всё можно найти даже в темноте. Он лежал рядом с ней в темноте, слушая, как она разматывает прошлое, и чувствовал, что он скован, загнан во что-то тёмное, потайное, что было им самим, как в ящик.
А может, всё дело в том, думал он иногда, что у него-то самого нет прошлого, о котором стоит рассказывать? Может, у него и вообще нет прошлого? Он не подозревал, что это опасение заставило его проникнуть в прошлое тех, у кого, казалось, его не было. Он не понимал, что стоит ему попытаться воссоздать прошлое Бредуэлла Толливера, как он потеряет свой дар, свой единственный дар проникать в прошлое тех, у кого не было прошлого.
Когда чуть позднее, то есть после одного случая в Центральном парке в июне 1937 года, он отправился воевать в Испанию, он так и не понял, что боязнь не иметь прошлого и была одной из побудительных причин его поступка. Вернее говоря, где-то в душе сознавая это, он тут же, стыдясь, поборол свою мысль.
Он не знал, что каждый человек томится желанием иметь своё прошлое.
Но ещё не знал, что постыдно не это, а желание иметь не подлинное, а мнимое прошлое.
Случай в Центральном парке произошёл в самом начале знакомства Толливера с Летицией Пойндекстер, вскоре после того, как она сказала Телфорду Лотту, что ей этот молодой человек не понравился. Его же в тот период больше всего терзала неспособность работать. Он прожил в Нью-Йорке уже больше года и не написал ничего, что нравилось бы ему самому или Телфорду Лотту. Телфорда Лотта это ничуть не тревожило: напор новых впечатлений и новых идей уляжется, и Бред их со временем освоит. Но сам Бредуэлл Толливер чувствовал, будто он истекает кровью от какой-то внутренней раны.
Все вокруг казались такими уверенными в себе. Их суждения, высказанные на страницах журнала или сквозь облака табачного дыма над полупустой рюмкой, звучали так непререкаемо. Все они, как и Летиция Пойндекстер, обладали той внутренней свободой, которую, казалось, ему вовек не обрести. И с той же поразительной сноровкой, с какой Летиция разбиралась в своём собственном «я», в своей собственной жизни, все они шагали сквозь тьму истории, словно слепцы по своему хорошо знакомому дому.
Для него же история была просто вереницей прошедших событий, какими бы бессмысленными они ни были. Не без мрачного юморка он представлял себя одним из тех шкурятников давних времён, которые охотились на ондатру во времена его прадеда, — как он зырит из-за ракитника на приплюснутые, неправдоподобные, закованные в железо канонерки генерала Гранта, которые, пыхтя, ползут по реке на юг. Ниоткуда и в никуда. Да, ниоткуда и в никуда — вот что такое история. Но для людей, которые его окружали, история — это поезд, который приходит вовремя или только с небольшим опозданием. Они внушали ему трепет.
Господи Иисусе, — думал он, — Фидлерсборо!..
Но Летиция Пойндекстер говорила в тот день не об истории. Она говорила о счастье. Одно время, говорила она, я была несчастна. Вела бессмысленную жизнь. Когда она уехала от матери, поселилась в Гринич-вилледже и всерьёз занялась живописью, это ей помогло. Но внутри всё оставалось по-прежнему. Она всё ещё была загнана в угол.
— Знаете, — сказала она, нагнув голову, чтобы получше его разглядеть, и откинув блестевшую на солнце рыжую прядь, — нельзя быть счастливой, если ты загнана в угол. Правда?
Она задала этот вопрос очень серьёзно. Ей надо было, чтобы он сказал: «Нет, нельзя». Ей надо было, чтобы он понял. Он был такой невежественный. Его невежество вдруг показалось ей трогательным.
— Нет, — сказал он, — по-видимому, нельзя быть счастливым, если чувствуешь, что ты загнан в угол.
В эту минуту он чувствовал себя загнанным в угол. Он думал о своей старой пишущей машинке в полуподвальной комнате на Макдугал-стрит, на столе, служившем ему и обеденным, и письменным, где рядом с машинкой были треснутая тарелка, полная окурков, графин красного вина и словарь, а на полу валялись скомканные листы бумаги. Он хотел стать писателем. Он так мучительно этого хотел, что сейчас на солнце у него даже голова кружилась. Быть писателем — иначе и жить не стоит. И с отчаянием подумал, что никогда им не будет.
Но она говорила о счастье.
Живописи оказалось недостаточно, говорила она. Тогда она занялась психоанализом. Когда чувствуешь себя такой несчастной, надо как-то с этим бороться. О да, это помогло, в известной мере, конечно, она хотя бы узнала, почему она так живёт. Но и это знание тоже не сделало её счастливой. Не заставило её вести себя иначе, намного иначе, надо это признать.
— Но психоанализ, говорила она, — это просто изощрённая форма буржуазного баловства. Буржуа покупает его на свои деньги, когда видит, что ничего больше не хочет из того, что можно купить. Это тайная услада либеральных интеллигентов. Вроде онанизма. Это…
Она вряд ли сознавала, что слова её — смутное эхо чужих слов, тех, что два года назад произносил Телфорд Лотт, когда они были близки и он пытался вывести её из удручённого состояния, объясняя, что она должна слить свою судьбу с судьбою всего человечества и бороться за справедливость. Он преуспел даже сверх своих ожиданий. Уговорил её бросить психоанализ, но, к вящему его удивлению, она бросила и его самого.
Она бросила его и обрела счастье. Нашла в жизни какой-то смысл. Как ни странно, она обнаружила, что мужчины ей уже не так нужны, как раньше. Ей иногда казалось, будто с ней вот-вот что-то случится. Она и не пыталась определить, что именно, но почему-то чувствовала, что прикосновение мужской руки замарает её, что ей суждено пережить счастье превыше всякого счастья.
— Это было как обращение в новую веру, — рассказывала она Бредуэллу Толливеру о том, что с ней произошло, допуская при этом уклончивость и купюры, которые делали рассказ раздражающе абстрактным, как сон, чьи подробности не можешь припомнить. — Да, совсем как обращение в новую веру, — повторила она, серьёзно шагая рядом с ним по узкой петлистой аллее между кустами высокой живой изгороди.