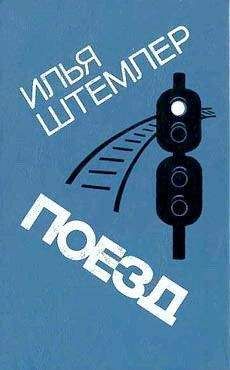Герман Банг - У дороги
– А ведь правда, там из-под каждого кустика слышатся поцелуи…
– Ну и что ж, – отзывается пасторша, которая смотрит на дело с практической стороны. – От этого вышло немало добра…
– Почему бы нам, старикам, не выпить по этому случаю, – говорит пастор. – Ваше здоровье, милая фру Катинка.
Катинка вздрагивает:
– Спасибо…
Разговор переходит на молодую пару, последнюю из тех, что нашли свое счастье на «скамье любви». Недавно у них родился сын.
– Разве сын, а не дочь?
– Да, сын, славный мальчуган.
– Родился восьми фунтов, – сообщила фру Линде. – И живут они душа в душу…
– А уж разговоров-то было…
– Воркуют, точно голубки, будто у них все еще медовый месяц…
Отужинали – фру Линде сделала знак пастору.
– Ну что ж, – сказал пастор, – последний тост за здоровье хозяйки.
– Спасибо за угощенье.
Все встали из-за стола – веселый гомон выплеснулся в сад. Катинка прислонилась к стене. Ей казалось, шум и голоса раздаются где-то за тридевять земель, – она видела перед собой только бледное, взволнованное лицо Хуса, любимое ею лицо.
Пришли две служанки убрать со стола, Катинка вышла в сад. Там затеяли играть в прятки. Агнес уже начала считалку: «Заяц белый, куда бегал…»
Старый пастор попрощался с гостями.
– Ничего не попишешь– суббота, – объяснил он. У калитки он столкнулся с Баем. – Спокойной ночи, начальник, иду готовиться к проповеди…
Луиса-Старшенькая водила. Она стояла у зарослей жасмина. А от куста к кусту перебегали и прятались какие-то тени.
– Она подглядывает, подглядывает, – крикнул кто-то, порхнув мимо жасмина.
Потом все стихло.
– Я иду искать.
Катинка вернулась в беседку. Прикрыла за собой дверь. Она чувствовала бесконечную усталость. Застольная болтовня навалилась на нее огромной, неизбывной болью.
Так она и сидела в тишине, когда дверь вдруг открыли и снова закрыли.
– Хус…
– Катинка, Катинка… – В его голосе были мука и слезы. Он упал перед ней на колени, порывисто схватил ее руки и целовал, целовал их без конца.
– Друг мой, друг мой.
Катинка высвободила руки и на мгновение положила их на его плечи, а он так и стоял перед ней на коленях.
– Да, Хус, да.
По ее щекам катились слезы. С невыразимой нежностью провела она рукой по его волосам. Он плакал.
– Милый Хус… пройдет время… вам станет легче… А теперь… теперь… – Она перестала гладить его голову и оперлась рукой о край стола. – Вы уедете… мы больше не увидимся…
– Не увидимся?
– Да… Хус… раз все так получилось… Но я никогда не забуду вас – никогда…
Она говорила ласково-ласково, и голос ее был полон бесконечной горестной нежности.
– Катинка, – выговорил Хус и поднял к ней лицо – оно было залито слезами.
Катинка глядела на его лицо– она любила в нем каждую черточку. Глаза, рот, лоб – больше ей никогда их не увидеть, никогда не быть рядом с ним.
Она сделала шаг к двери. Потом обернулась к Хусу, который стоял у стола.
– Поцелуйте меня, – сказала она и припала головой к его груди.
Он взял голову Катинки в свои ладони и целовал ее, повторяя ее имя.
…А в саду бегали и резвились. Луиса-Старшенькая так мчалась по тропинке в орешнике вдогонку за новым доктором, что едва не сбила с ног Бая и Кьера.
– Да, – рассказывал Бай. – Съездили мы на ярмарку, славный провели денек… Была там парочка толковых девчоночек– лихие девчонки… в сапожках с кисточками… Вот это я называю проветрились, старина Кьер.
– Хус тоже рассказывал, – говорит Кьер.
– Хус. – Бай останавливается и понижает голос. – Ох, уж этот Хус… Я знаю, что говорю, – ни черта он не смыслит в девчонках. Соловушки поют, а он жмется, точно мокрая курица… просто жалость глядеть, старина Кьер, ей-богу, жалость глядеть, – мужчина видный собой…
У жасминового куста Луиса-Старшенькая рухнула прямо в объятия нового доктора.
Начало смеркаться. По саду разбрелись парочки. Кого-то окликнули с тропинки.
– А-у! – отозвался голос с луга у плотины.
А потом зазвонили вечерние колокола, и сразу все притихло. Все молчаливо потянулись к сложенной из дерна скамье, голоса зазвучали реже и глуше.
Катинка сидела рядом с Агнес. Пасторская дочь, как всегда, ластилась к своей «прелести».
– Спойте, фрекен Эмма, – попросила Агнес.
Все расселись на скамье из дерна, и крошка Эмма запела. Это была песня о господине Педере, которому «был ведом рун язык». Девушки подхватили припев.
Агнес тоже подпевала и тихонько раскачивалась взад и вперед, обвив рукой Катинку:
Нежных клятв слова
Счастья мне не дали.
Краток счастья миг,
Долги дни печали.
Краток счастья миг.
И снова все стихло.
Они пели песню за песней, – один голос заводил, остальные подтягивали.
Катинка по-прежнему сидела рядом с Агнес, молча прижавшись к ней.
– Подпевайте же, моя прелесть, – сказала Агнес и склонилась к Катинке.
Стало уже совсем темно. Кусты теснились вокруг, точно громадные тени. После жаркого дня воздух наполнился свежестью росы и душными ароматами.
Кто-то из мужчин обратился к Хусу, он ответил. Катинка слушала его голос.
– «Марианна» очень красивая песня, – сказала фрекен Эмма.
– Правда, спойте «Марианну». Агнес и фрекен Эмма запели.
– Только не уходите, – сказала Агнес Катинке.
Здесь, под камнем, схоронили
Нашу Марианну.
Ходят девушки к могиле
Бедной Марианны.
В сердце змей вонзил ей жало.
В жизни радости не стало
Бедной Марианне!
– Вы озябли, моя прелесть?
– Пора домой, – сказала Катинка. Она встала.
– Уже поздно, – сказала она.
Они стояли за оградой сада. Она уже простилась с ним. Когда он склонился над нею, она увидела его лицо, горестное, бледное. Почувствовала, как он судорожно, до боли стиснул ей пальцы, услышала голос Бая:
– До скорого, Хус. Всего наилучшего!
Кто-то что-то сказал, она не расслышала, принужденно рассмеялась и поспешно стала прощаться за руку со всеми остальными. Агнес обняла ее за талию и бегом повлекла к садовой калитке. Калитка стукнула раз, другой и захлопнулась…
В саду продолжали петь.
– Пойдем вот этой дорогой, – сказала она. Тропинка тянулась через поля, вдоль пасторского сада. По ней приходилось идти гуськом.
Катинка медленно шла позади Бая.
– Спокойной ночи, – услышали они. Старый пастор вышел на пригорок в саду. На голове у Линде был носовой платок.
– Спокойной ночи, господин пастор.
– Спокойной ночи.
Они пошли дальше по полю. Когда пастор сказал «спокойной ночи», из глаз Катинки вдруг брызнули слезы. Она продолжала беззвучно плакать. Раза два она обернулась и поглядела на пастора, стоявшего на пригорке.
– Ты идешь? – спросил Бай. Они вернулись домой.
Бай осмотрел путь, потом долго болтал, расхаживая по комнате, и наконец затих. Она тоже ходила из комнаты в комнату и делала все, что положено: накрыла чехлами мебель, полила цветы, заперла двери.
Но все было как в тумане, как во сне.
Наутро она встала и занялась привычными делами.
Пришел и ушел десятичасовой поезд, и она сидела под окном, выходившим на поля, которые были такими же, как и вчера.
Она разговаривала, выслушивала привычные вопросы и привычно отвечала. Хлопотала на кухне.
Мария завела какой-то длинный разговор, но хозяйка вдруг перебила ее и сказала:
– Я пойду в церковь.
И не успела Мария открыть рот, как она исчезла за дверью.
По такой жаре через поле и бежит чуть ли не бегом.
Несколько дней спустя Катинка уехала «домой».
Один из ее братьев вел торговое дело в их родном городе; у него она и остановилась; других братьев разбросало по белу свету.
Невестка Катинки была славная маленькая женщина, она каждый год рожала по ребенку и вечно ходила с животом, стесняясь своей беременности и тяготясь ею. Она стала на редкость апатичной и даже немного придурковатой. Ее хватало только на то, чтобы рожать детей и кормить их грудью.
Дома всегда оставалась какая-нибудь комната, где не успели повесить занавески. Выстиранные и накрахмаленные, они свисали со спинок стульев. Малышей с утра до вечера приходилось обстирывать, куда ни глянь, всюду были протянуты веревки, на которых сушились пеленки и носки. Еда никогда не поспевала вовремя, а когда наконец садились за стол, обязательно не хватало тарелок.
– Крошка Ми будет есть из одной тарелки с мамой, – говорила маленькая невестка.
В доме непрерывно хлопали двери и каждые полчаса раздавался крик, точно резали поросенка. Это кто-то из малышей шлепался на пол. Дети были все в синяках и шишках.
– Опять начинается, – говорил брат.
– Ну что я могу поделать, Кристоффер? – отвечала жена. Она вечно твердила: «Ну что я могу поделать, Кристоффер?»– и смотрела растерянным взглядом.
С приездом Катинки в доме мало-помалу водворился порядок. Катинке нужно было чем-нибудь заняться и чувствовать себя полезной. И она бесшумно ходила по дому, успевая переделать все дела.