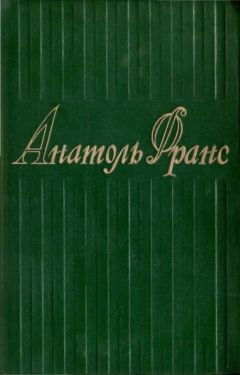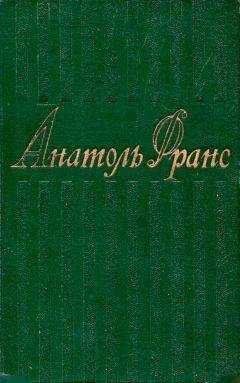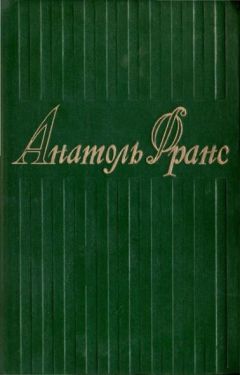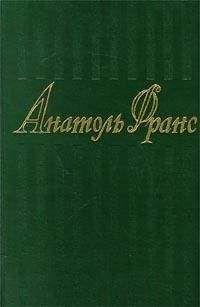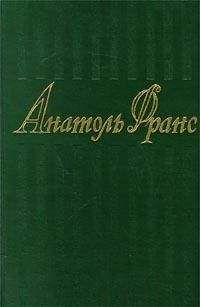Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
— Милое дитя, почему вы, не зная меня, так озабочены моим спасением?
— Потому, — отвечала Роза, переходя на «вы», — что ваш друг даст мне много денег, когда вы окажетесь на свободе, и я выйду замуж за Флорантена, моего возлюбленного. Вы видите, гражданка, я хлопочу о самой себе. Но мне приятнее спасти вас, чем кого-нибудь другого.
— Благодарю вас, дитя мое! Но почему же?
— Потому что вы такая милая, а ваш друг так тоскует вдали от вас. Значит, решено, не так ли?
Фанни протянула руку, чтобы взять сверток с платьем, который принесла ей Роза. Но тотчас же отдернула руку.
— А вы знаете, Роза, что если мы попадемся, вам грозит смерть?
— Смерть! — вскричала девушка. — Вы пугаете меня. О нет! Я этого не знала!
И тут же, успокоившись, сказала!
— Ваш друг, гражданка, сумеет меня спрятать.
— Нет надежного убежища в Париже. Благодарю вас, Роза, за ваше самопожертвование, но воспользоваться им я не могу.
Роза оцепенела.
— Вас гильотинируют, гражданка, а я не выйду замуж за Флорантена!
— Успокойтесь, Роза! Я могу оказать вам услугу, не воспользовавшись вашим предложением.
— О нет! Я не хочу зря брать деньги!
Дочь тюремщика просила, плакала, умоляла. Она упала на колени, схватила Фанни за край платья.
Фанни отстранила ее рукой и отвернулась. Лунный луч скользнул по ее спокойному прекрасному лицу.
Ночь выдалась благодатная, дул легкий ветерок. Дерево узников, шелестя душистыми ветвями, роняло бледные цветы на голову добровольной жертвы.
ОЛОВЯННЫЙ СОЛДАТИК
В ту бессонную ночь, когда, болея инфлуэнцей, я томился в жару, мне явственно послышался троекратный стук в дверцу стеклянной горки, которая стояла близ моей кровати и в которой были беспорядочно расставлены фигурки из севрского бисквита и саксонского фарфора, терракотовые статуэтки из Танагры и Мирины, мелкие бронзы Возрождения, японские изделия из слоновой кости, венецианское стекло, китайские чашки, мартеновские лакированные табакерки, лаковые подносы, эмалевые ларчики, короче говоря тысяча вещиц тонкой работы, к которым я питаю великую слабость. Стук был слабый, но отчетливый; и при свете ночника я увидел, что оловянный солдатик, стоявший в горке, пытается выйти на свободу. Усилия его увенчались успехом, и скоро под ударами крошечного кулачка стеклянная дверка раскрылась настежь. Сказать поистине, я не особенно удивился. Солдатик всегда казался мне подозрительным субъектом. Два года тому назад мне его подарила г-жа Ж. М., и с той поры я постоянно жду от него какой-нибудь каверзы. На нем белый с синим кантом мундир: форма французской гвардии, а, как известно, гвардейцы никогда не отличались образцовой дисциплиной.
— Эй, вы, — вскричал я, — Цветочек, Сердцеед, Фанфан-Тюльпан! Нельзя ли вести себя потише и не нарушать моего покоя. Я очень болен!
Проказник проворчал в ответ:
— Тот, кого вы изволите видеть, брал приступом Бастилию сто лет тому назад; после чего мы осушили немалое количество кружек. Не думаю, чтобы много осталось таких старых оловянных солдат, как я! Покойной ночи, буржуа! Тороплюсь на парад.
— Фанфан-Тюльпан, — сказал я внушительно, — ваш полк раскассирован по повелению Людовика Шестнадцатого тридцать первого августа тысяча семьсот восемьдесят девятого года. Вам незачем ходить на какой-то парад. Стойте спокойно в горке!
Вояка Тюльпан закрутил ус и с презрением искоса поглядел на меня.
— Как! — сказал он. — Вы не знаете, что каждый год тридцать первого декабря ночью, когда уснут дети, на крышах, где весело дымятся трубы, выбрасывая остатки пепла от рождественского полена, сходятся на смотр оловянные солдаты? Среди их расстроенных рядов скачут кавалеристы, лишившиеся головы. Тени всех оловянных солдат, погибших на войне, проносятся в адском марше. Мелькают изогнутые штыки, сломанные сабли. И души умерших кукол, бледных при свете луны, смотрят им вслед.
Болтун смутил меня своими речами.
— Стало быть, Тюльпан, таков обычай, священный обычай? Я бесконечно уважаю всяческие обычаи, привычки, традиции, легенды, народные поверья. Мы называем все это фольклором и занимаемся его изучением; это занятие доставляет нам большое развлечение. Я вижу, Тюльпан, к своему великому удовольствию, что вы почитаете традиции. Но, с другой стороны, у меня нет уверенности, следует ли выпустить вас из горки.
— Ты обязан его выпустить! — произнес мелодичный и чистый голос, какого мне еще не доводилось слышать, исходивший из уст молодой гречанки из Танагры, изящная и величественная фигура которой, обвитая складками гиматия[339], возвышалась из-за плеча французского гвардейца. — Ты обязан! Любые обычаи, завещанные предками, заслуживают уважения. Наши отцы знали лучше нас, что дозволено и что запрещено, ибо они были ближе к богам. Не следует препятствовать этому галату исполнить воинский обряд предков. В мое время они не носили такого потешного синего мундира с красными отворотами. Они были прикрыты лишь щитами. И все же внушали нам страх. Они были варварами. Ты тоже галат и варвар. Напрасно читал ты поэтов и историков: ты не знаешь, в чем истинная красота жизни. Ты не бывал на афинских народных собраниях, когда я пряла милетскую шерсть у себя во дворе под древним тутовым деревом.
Я пытался ответить, соблюдая метричность речи:
— О прекрасная Паннихис! Твой маленький греческий народ создал пластические формы, которые вечно будут радовать наши души и взоры. Он создал искусство и положил начало наукам. Я радуюсь, слушая твои мудрые речи. Обычаи должно соблюдать, иначе что это будут за обычаи! О светлокудрая Паннихис! Ты, которая пряла милетскую шерсть под древним тутовым деревом, не напрасно дала ты мне добрый совет! Следуя ему, я позволю Тюльпану идти туда, куда его влекут традиции.
Тут молоденькая маслодельщица из севрского бисквита, опершись руками на свою маслобойку, обратила ко мне умоляющий взгляд.
— О, не позволяйте ему уйти! Он обещал жениться на мне. А он любитель снимать сливки! Если он уйдет, я его больше не увижу.
И, закрыв свои круглые щечки фартуком, она заплакала навзрыд.
Я успокаивал, как мог, молоденькую маслодельщицу и упрашивал моего французского гвардейца не очень засиживаться после смотра в каком-нибудь кабачке. Он обещал, и я пожелал ему счастливого пути. Но он не уходил. Странное дело, он преспокойно стоял на полке, застыв в одной позе, как и окружающие его статуэтки. Я выразил ему свое удивление.
— Запаситесь терпением! — отвечал он. — Не могу же я на ваших глазах тронуться в путь, не нарушив всех законов волшебства! Вот вы задремлете, и тут же я живехонько ускользну вместе с лунным лучиком, ибо стану невесом. Но зачем мне торопиться? Я могу обождать часок-другой. Давайте-ка лучше потолкуем! Хотите, я расскажу вам какую-нибудь историю из стародавних времен? Я их знаю немало.
— Расскажите, — сказала Паннихис.
— Расскажите, — сказала маслодельщица.
— Расскажите-ка, Тюльпан, — сказал я в свою очередь.
Он сел, набил трубку, налил себе стаканчик вина, откашлялся и начал такими словами:
— Девяносто девять лет тому назад, в этот самый день, я находился вместе с дюжиной товарищей, похожих на меня, как братья, на круглом столике; кто из нас стоял, кто лежал; у многих была повреждена голова или нога: героические останки целой коробки оловянных солдатиков, купленной за год до того на ярмарке в Сен-Жермене. Комната была обита голубым шелком. Эпинет…
Я прервал его:
— Постойте-ка, Тюльпан, я знаю эту историю: речь идет об одном обыске во времена террора. Ну, это не по вашей части: я сам расскажу об этом завтра же. А вы вспомните-ка что-нибудь из военной жизни.
— Идет, — продолжал Фанфан-Тюльпан. — Поднесите мне стаканчик, и я расскажу вам о битве при Фонтенуа, в которой я участвовал. Мы тогда знатно всыпали англичанам. В этой битве против нас сражались также австрийцы, голландцы и, если мне не изменяет память, немцы; но эти вояки в счет не идут. У Франции только один враг — Англия. И вот пришли мы на поле боя. С первой же минуты я стяжал себе лавры. Подойдя шагов на пятьдесят к противнику, мы остановились, и лорд Чарльз Гэй, командир английских гвардейцев, снял шляпу и крикнул:
— Господа французские гвардейцы, стреляйте!
На что наши офицеры ответили!
— Господа английские гвардейцы, мы уступаем эту честь вам. Стреляйте первыми.
И этот клич был повторен всеми солдатами нашего полка. Мой голос заглушал все остальные голоса. Только он один и был слышен.
— Да, этот случай вошел в историю, — заметил я. — Скажите, Тюльпан, где набрались вы столь возвышенного благородства, которое стало предметом восхищения потомков?
— Благородства? — вскричал Тюльпан, свирепо вращая глазами. — Что вы имеете в виду? Вы что, старина, болваном меня почитаете? Посмотрите-ка на меня получше. Разве я похож на простофилю?.. Благородство!.. Вы, видно, смеетесь надо мной, толкуя о каком-то благородстве! Ну, знаете, я — стреляный воробей, меня на мякине не проведешь. Глядите, как бы я вам уши не отрезал! Вы просто олух. Вишь, чего захотели — чтобы французский гвардеец сверхсрочной службы держал себя благородно с этими богохульниками англичанами. Мы им предоставили право стрелять первыми, а, как вам известно, первый залп не приносит большого ущерба тем, на кого он обрушивается. Ведь стреляют-то наугад, пока противник не выдаст себя пороховым дымом. Вы разве не знаете, что уставы запрещают нам первыми открывать огонь? Видать, вы вовсе невежда.