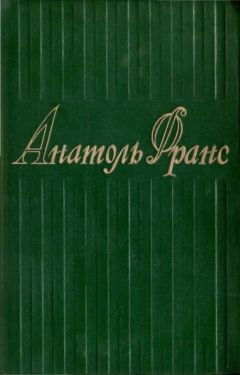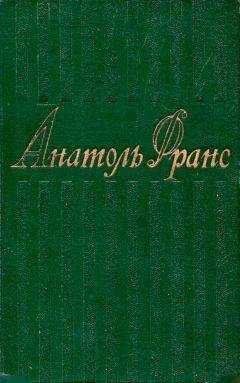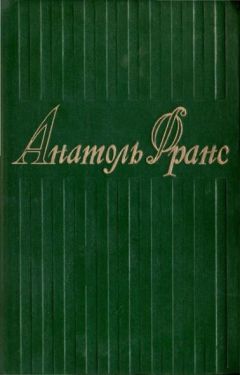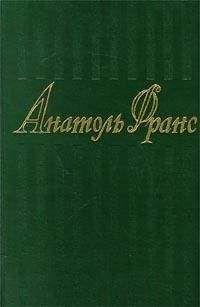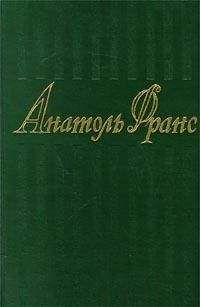Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
Лардийон наклонил голову в знак того, что он понимает его чувство.
— Я знаю, что ты, гражданин Лардийон, не бесчувственный человек; я прошу тебя соединить меня с той, кого я люблю, и немедленно же отправить в Пор-Либр.
— Ей-ей! — сказал Лардийон с улыбкой на толстых, но все же красивых губах. — Ты просишь больше, чем жизни, гражданин, ты просишь счастья!
Он протянул руку в сторону спальной и крикнул:
— Эпихарис! Эпихарис!
В комнату вошла высокая смуглая женщина с обнаженными руками и грудью, в сорочке и юбке, с кокардой в волосах.
— О нимфа! — сказал Лардийон, сажая ее к себе на колени. — Вглядись в лицо сего гражданина и запечатлей его в своей памяти! Как и мы с тобой, Эпихарис, он чувствителен; как и мы, он знает, что разлука величайшее из зол. Он желает идти вслед за своей возлюбленной в тюрьму и на гильотину. Эпихарис, можно ли отказать ему в таком благодеянии?
— Нет, — отвечала девица, потрепав по щеке монаха в карманьоле.
— Быть по сему, моя богиня! Мы соединим двух нежных любовников. Дай мне твой адрес, гражданин, и нынче же ты будешь спать в Пор-Либре!
— Решено, — сказал Андре.
— Решено, — отвечал Лардийон, протягивая ему руку. — Ступай к своей подруге и скажи ей, что ты видел Эпихарис в объятиях Лардийона. Пусть этот образ возвеселит ваши сердца!
Андре ответил, что, может быть, пред ними возникнут образы более трогательные, но все же он благодарен Лардийону и сожалеет лишь о том, что не может оказать услугу в свой черед.
— Гуманность не требует награды, — отвечал Лардийон.
Он встал и, прижимая Эпихарис к груди, прибавил:
— Кто знает, когда придет наш черед?
Omnes eodem cogimur: omnium
Versatur urna; serius ocius
Sors exitura, et nos in aeternum
Exilium impositura cymbae[335]
А в ожидании сего выпьем! Гражданин, не желаешь ли разделить с нами трапезу?
Эпихарис заметила, что это было бы весьма любезно со стороны гостя, и, желая удержать Андре, взяла его за руку. Но он ушел, унося с собой обещание, данное заместителем общественного обвинителя.
ЭПИЗОД ИЗ ВРЕМЕН ФЛОРЕАЛЯ II ГОДА РЕСПУБЛИКИ[336]
Мадемуазель Жанне Кантель
Привратник запер дверь тюрьмы за бывшей графиней Фанни д'Авенэ, взятой под стражу «в интересах общественной безопасности», как было указано в ее деле, то есть за то, что она предоставляла убежище врагам Республики.
И вот она в старинном здании, где некогда отшельники Пор-Рояля вкушали вкупе сладость уединения, и здание это даже не пришлось переделывать в тюрьму.
Пока писарь вносил в реестр имя арестованной, она, сидя на скамейке, думала: «О господи, зачем все это? И чего ты хочешь от меня?»
Тюремщик был с виду скорее угрюм, нежели зол; а его прелестной дочке так шел белый чепец с кокардой из лент трех цветов нации! Этот человек провел Фанни во двор, посреди которого росла чудесная акация. Тут Фанни ожидала, пока ей приготовят койку и стол в помещении, где уже находилось пять или шесть узниц, ибо тюрьма была переполнена. Тщетно выбрасывала она ежедневно избыток своего населения в революционный трибунал и на гильотину. Комитеты ежедневно наполняли ее снова.
Во дворе Фанни увидела молодую женщину, которая вырезывала буквы на коре дерева, и узнала в ней Антуанетту д'Ориак, подругу своего детства.
— И ты здесь, Антуанетта?
— И ты здесь, Фанни? Попроси поставить твою кровать возле моей. Нам о многом надо поговорить.
— О многом… А господин д'Ориак, Антуанетта?
— Мой муж? Право, дорогая, я почти забыла о нем. Это несправедливо. Он всегда был безупречен в отношении меня… Я думаю, он где-нибудь в тюрьме.
— А что это ты делаешь, Антуанетта?
— Тс!.. Который теперь час? Не пять ли? Если так, то моего друга, имя которого я соединяю со своим именем на стволе этого дерева, уже нет более на свете, потому что в полдень он предстал перед революционным трибуналом. Его звали Жерен; он был волонтером Северной армии. Я познакомилась с ним здесь, в тюрьме. Мы провели вместе сладостные часы под этой акацией. Он был благородный молодой человек… Однако мне нужно заняться, милочка, твоим устройством.
И, обняв Фанни за талию, она увела ее в камеру, где стояла ее собственная кровать, и заручилась у тюремщика обещанием не разлучать ее с подругой.
Они обе решили на другое утро вымыть пол в камере.
Жалкий ужин, приготовленный поваром-патриотом, подавался на общий стол. Каждая узница приносила с собой тарелку и деревянный прибор (металлическим пользоваться возбранялось) и получала порцию свинины с капустой. За столом Фанни встретилась с женщинами, удивившими ее своей веселостью. Как и госпожа д'Ориак, они были изысканно причесаны и одеты в свежие туалеты. Даже перед лицом смерти они не утратили желания нравиться. Речи их были исполнены изящества, как и они сами, и вскоре Фанни вошла в круг любовных интриг, которые завязывались и приходили к развязке за тюремными засовами, в ограде этих мрачных дворов, где близость смерти обостряла жажду любви. Охваченная неизъяснимым волнением, она почувствовала неодолимую потребность держать в своей руке руку возлюбленного.
Она вспомнила того, кто ее любил и чьей любовницей она не стала; и жестокое сожаление, близкое к раскаянию, сжало ее сердце. Слезы, жгучие, как страсть, заструились по ее щекам. При мерцании коптящей плошки, освещавшей стол, она наблюдала за соседками, у которых лихорадочно блестели глаза, и думала: «Всех нас ждет смерть. Отчего же я так грустна, отчего моя душа тоскует, меж тем как эти женщины одинаково легко смотрят и на жизнь и на смерть?»
И она проплакала всю ночь напролет, лежа на своем жалком одре.
IIМедленно тянулись двадцать долгих томительных дней. Двор, куда влюбленные приходили в поисках тишины и тени, был пустынен в тот вечер. Фанни, задыхавшаяся в сыром воздухе тюремных коридоров, села на зеленый дерн невысокой насыпи, что окружала старую акацию, осенявшую двор. Акация была вся в цвету, и легкий ветерок, шелестевший ее листвой, наполнял воздух благоуханием. Под вензелем, вырезанным Антуанеттой, Фанни увидела листик бумаги, прибитый к стволу дерева. И она прочла написанные на нем стихи поэта Виже, такого же узника, как она[337].
Здесь не свершившим преступлений,
Покорным жертвам подозрений
Акация дала приют в тени.
И, горести забыв, в мечтах любви, они
Тревоги нежные в ночи ей поверяли,
Роняя на листву не раз слезу печали…
Вы, кто не в столь суровый век
Сюда проникнет за ограду,
Щадите дерево, чей веток белый снег
Страх умерял порой, давал в тоске отраду —
Под чьей листвой был счастлив человек![338]
Прочитав стихи, Фанни задумалась. Перед ее мысленным взором прошла вся ее жизнь, безмятежная, благополучная: брак без любви, увлечение музыкой, поэзией, жизнь, скрашенная дружбой, но не ведавшая ни страстей, ни душевных бурь. Ей вспомнилась безответная тайная любовь достойного молодого человека, теперь, в безмолвии тюрьмы, ставшая ей желанной. При мысли, что она должна умереть, ее охватило отчаяние. Холодный пот выступил на висках. В тревоге, ломая руки, она обратила взоры к звездному небу, шепча:
— О господи! Всели в меня надежду!
Чьи-то легкие шаги послышались в эту минуту. Розина, дочь тюремщика, пришла поговорить с ней наедине.
— Гражданка, — сказала ей прелестная девушка, — завтра вечером человек, который тебя любит, будет ожидать в карете на авеню Обсерватории. Возьми этот сверток, в нем ты найдешь платье, такое же, как на мне; ты переоденешься в своей камере во время ужина. Ты такого же роста, как я, и тоже белокурая. В темноте нас легко принять одну за другую. В нашем заговоре участвует сторож, влюбленный в меня, он поднимется в твою камеру и принесет тебе корзинку, с которой я хожу за провизией. Ты сойдешь вместе с ним вниз, по лестнице, ключ от которой хранится у него. Лестница ведет в помещение моего отца, — дверь туда не запирается и не охраняется. Лишь бы только отец тебя не заметил! Мой друг встанет спиной к окну отцовской комнаты и скажет тебе, как сказал бы мне: «До свидания, гражданка Роза, не будьте впредь такой жестокой!» И ты спокойно выйдешь на улицу. Я же тем временем пройду через главную калитку, и мы встретимся с тобой в карете, в которой нас должны увезти.
Фанни, слушая эти речи, упивалась ими, как веянием жизни и весны. Полной грудью, окрыленная надеждой, она вдыхала воздух свободы.
Она уже заранее ликовала, предвкушая свое освобождение. К тому же тут шла речь о любви; и она прижала руки к сердцу, чтобы укротить свою радость. Но понемногу рассудок, столь властно говоривший в ней, взял верх над чувством. Она внимательно поглядела на дочь тюремщика и сказала: