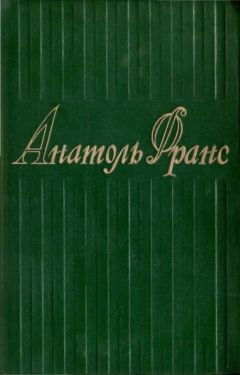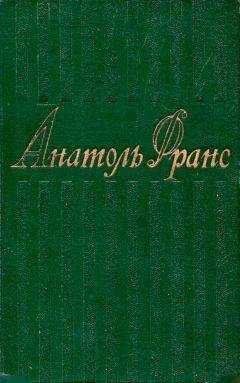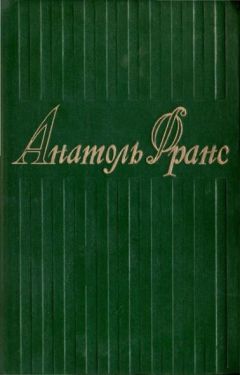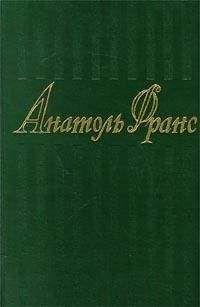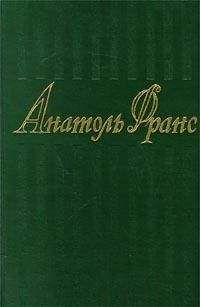Анатоль Франс - 2. Валтасар. Таис. Харчевня Королевы Гусиные Лапы. Суждения господина Жерома Куаньяра. Перламутровый ларец
Моя Жюли, если мне суждено пасть под топором палача, если мне суждено, как Сиднею, умереть за свободу[341], все же и самой смерти не удержать в царстве теней, вдали от тебя, мою негодующую душу. Я прилечу к тебе, моя возлюбленная! Мой дух неизменно будет витать близ тебя».
Она читает и думает. Ночь на исходе. Уже брезжит рассвет сквозь оконные занавесы: утро. Служанки начинают свою работу. Жюли торопится окончить свою. Как будто слышатся чьи-то голоса. Нет, все спокойно, вокруг глубокая тишина.
Глубокая тишина, ибо снег заглушает звук шагов. Идут. Пришли. Удары сотрясают дверь.
Спрятать письма, запереть секретер уже нет времени. Все, что Жюли может сделать, она делает: берет охапку бумаг и бросает их под диван, чехол которого спускается до самого пола. Несколько писем падают на ковер; она заталкивает их ногой под диван и, схватив книгу, бросается в кресла.
Председатель секции района входит в сопровождении отряда в двенадцать пик. Это бывший плетельщик соломенных стульев по имени Броше, которого постоянно трясет лихорадка; его налитые кровью глаза вечно исполнены ужаса.
Он подает знак людям охранять входы и обращается к Жюли:
— Гражданка, мы узнали сейчас, что ты состоишь в переписке с агентами Питта[342], эмигрантами и заговорщиками, заточенными в темнице. Именем закона я пришел изъять твои письма. Уже давно мне указывали на тебя, как на аристократку самой опасной породы. Гражданин Рапуа, которого ты видишь здесь, — и он указал на одного из своих людей, — признался, что зимой тысяча семьсот восемьдесят девятого года ты дала ему деньги и одежду, чтобы его подкупить. Должностные лица умеренных воззрений и лишенные гражданской доблести слишком долго щадили тебя. Но теперь я, в свой черед, представитель власти, и ты не избегнешь гильотины. Давай сюда письма, гражданка!
— Возьмите их сами, — говорит Жюли. — Секретер не заперт.
Там лежали еще некоторые документы: свидетельства о рождении, браке и смерти, счета поставщиков и ценные бумаги, которые Броше внимательно изучает одну за другой. Он щупает и переворачивает их, как человек недоверчивый, который и читать-то хорошенько не умеет. Время от времени он приговаривает:
— Мерзость! Имя бывшего короля не вычеркнуто! Мерзость, чистая мерзость!
Жюли понимает, что обыск затянется и примет придирчивый характер. Она не совладала с искушением бросить украдкою взгляд в сторону дивана. И она видит, что из-под чехла выглядывает, точно белое ушко котенка, уголок конверта. Тут тревога внезапно покидает ее. Уверенность в неминуемой гибели вселяет в нее спокойствие и налагает на ее лицо выражение, похожее на беспечность. Она не сомневается, что эти люди увидят, как видит она сама, злополучный клочок бумаги. Белый на красном ковре, он бросается в глаза. Но она не знает, обнаружат ли его сразу же, или несколько позже. Неизвестность занимает и развлекает ее. В эту трагическую минуту она забавляется своеобразной игрой в загадки, глядя, как патриоты то удаляются, то приближаются к дивану.
Броше, покончив с бумагами в секретере, выказывает нетерпение и говорит, что он-то уж наверняка отыщет все, что ему нужно.
Он опрокидывает мебель, переворачивает картины и ударяет эфесом сабли по деревянной обшивке стен, надеясь обнаружить тайники. Но ничего не обнаруживает. Он разбивает зеркало, желая убедиться, не спрятано ли за ним чего-нибудь. И ничего не находит.
Тем временем его люди наугад взламывают паркет. Они клянутся, что бесстыдной аристократке не удастся насмеяться над честными санкюлотами. Но никто из них не замечает уголка белого конверта, который выглядывает из-под диванного чехла.
Жюли ведут в другие комнаты и требуют у нее ключи. Ломают мебель, вдребезги разлетаются стекла; прокалывают пиками сиденья стульев, вспарывают кресла — и ничего не находят.
Однако ж Броше не унывает. Он возвращается в спальню.
— Черт подери! Письма здесь. Я в этом уверен.
Он осматривает диван; диван кажется ему подозрительным, раз пять или шесть Броше вонзает в него саблю по самую рукоятку. И не находит того, что ищет. Отчаянно бранясь, он отдает приказ к отступлению.
Уже переступив порог, он оборачивается и грозит Жюли кулаком:
— Бойся встречи со мной. Я державный народ!
И выходит последним.
Наконец-то они ушли! Она слышит, как шум шагов понемногу стихает на лестнице. Она спасена! И своей неосторожностью она не погубила возлюбленного! Она бежит, с задорным смехом, поцеловать своего Пьера, который, сжав кулачки, спит, не подозревая, какой хаос царит вокруг его колыбели.
Приложение
Глава из сказки «Пчелка», опубликованная в «Revue Bleue» в 1882 г., но не включенная А. Франсом в окончательный текст, вошедший в сборник «Валтасар»
ГЛАВА 5, в которой приводятся речи мамки ГертрудыВ то утро, — а это было первое воскресенье после пасхи, — мамка Гертруда, одевая Жоржа, говорила ему:
— Постойте, монсеньер, дайте же застегнуть ваши подвязки! Вот опоздаете к обедне, достанется вам от госпожи герцогини. Смотрите, как бы с вами не приключилось чего похуже, чем с этими языческими великанами, что заставляют сотрясаться землю, которая их поглотила! В горах, на скалах и поныне сохранились их следы.
— Как бы я хотел быть одним из этих великанов, Гертруда!
— Свят, свят, свят! Не слушай его, господи! А что бы вы стали делать, кабы были великаном?
— Я бы отцепил с неба луну.
— Как жалко-то! А что бы вы с ней стали делать, монсеньер?
— Подарил бы ее Пчелке.
— Да уж это все знают, как вы любите барышню Пчелку! Да и есть за что! Такая красотка и как вежлива со всеми простыми людьми, будь то самый последний слуга. Никогда не пройдет мимо меня, не сказав мне: «Добрый день, милая Гертруда! Как твое здоровье, милая Гертруда?» Приятно слышать такие добрые слова! Да благословит бог уста, которые произносят их!
— Но я люблю Пчелку, Гертруда, вовсе не потому, что она говорит тебе «добрый день»; я бы все равно любил ее, если бы она даже и не говорила этого. Как жалко, что она на самом деле не моя сестричка!
— Придет время, когда вы перестанете жалеть об этом, монсеньер. Уж поверьте мне, перестанете. Поставьте-ка ножку вот сюда на скамеечку, я зашнурую вам гетры. Ах, какие славненькие ботиночки! Дал же бог такие стройные ножки, да и правду сказать, это у вас в роду. Ну вот, опять шкурок оборвался! Не зря, бывало, ваш двоюродный дедушка Филипп пригвождал жуликов-торговцев за ухо к двери. Вот теперь из-за этого шкурка вы опоздаете к обедне. Удави дьявол таким шнурком того мошенника, который его продавал!
— Разве можно удавить таким шнурком, Гертруда, который все время рвется?
— Что правда, то правда, ах вы, мой ангелочек! Ума палата! Ну, да это у вас в роду. Покойный граф, ваш дедушка, натощак, бывало, слова не вымолвит, ну а вот после хорошего ужина иной раз так разойдется! Начнет говорить всякие любезности, называть меня красоткой Гертрудой. Истинная правда, так вот он и говорил: «Красотка Гертруда!»
— Гертруда, а ты старая?
— Да уж не молода, монсеньер, и с каждым днем все старее делаюсь. Но и старше меня люди на свете живут. Вот хотя бы принц Труа-Фонтэн. Он уже большой мальчуган был, а я только что на свет родилась. В тот год праздник отпущения справляли, и юный принц в первый раз штанишки надел.
— Может быть, это и так, Гертруда, но ведь у него такая длинная борода, такая красивая одежда, красивые собаки, красивые лошади. Он ездит на охоту. А ты, Гертруда, ведь не ездишь на охоту, у тебя нет красивых платьев. Не понимаю, что тебе за удовольствие жить? По-моему, никакого.
— Ах, монсеньер! Бедный мой муж, покойник, уж такой-то был умный человек! Вспомнишь иной раз, чего он только не придумывал, ну да, конечно, раз это не попало в книжки, так оно все и погибло вместе с ним. Но вот у меня, между прочим, осталось в памяти, как он, бывало, говорил: «У каждого возраста есть свои приятности». И верные это слова. Вот я, например, под старость утешаюсь тем, что меня господь бог в райскую обитель примет, а другие в геенну огненную пойдут. Ну, одна ножка готова, зашнуровали. Давайте другую.
— А по-моему, Гертруда, если тебе что и приятно, так это болтать с нашей кастеляншей и ключником, потому что ты только этим и занимаешься целые дни.
— Вот уж это напраслина, монсеньер! Ну, да ведь у молодых нет разумения, чтобы о человеке по заслугам судить. Наша кастелянша, монсеньер, достойная особа и могла бы служить примером другим, если бы только не заблуждалась на свой счет. А то ведь старуха, горбунья, а вот поди же — бредит, будто все мужчины только и думают, как бы жениться на ней. Ну, а что до нашего ключника — он у нас весельчак! И все-то он про всех знает. Вот только еще нынче утром рассказывал мне историю про вашего дедушку.