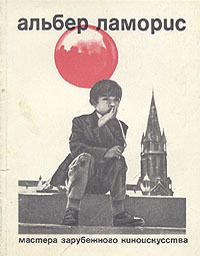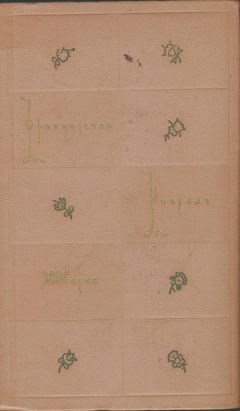Оноре Бальзак - Альбер Саварюс
— Только для того, чтобы прочитывать их; а потом вы сами будете относить их на почту. От этого они немного запоздают, вот и все.
В это время Розали и Мариэтта вошли в церковь, где каждая из них предалась своим мыслям, вместо того, чтобы читать обычные молитвы.
«Господи, какой это грех!» — думала Мариэтта.
Розали, душа, ум и сердце которой были все еще поглощены прочитанной повестью, решила, что повесть эта написана для ее соперницы. Думая все время, как ребенок, об одном и том же, она в конце концов пришла к мысли, что «Восточное Обозрение», наверное, посылается возлюбленной Альбера.
«Как бы узнать через отца, кому высылается этот журнал?» — размышляла она, стоя на коленях и опустив голову на руки, как будто целиком погруженная в молитву.
После завтрака она гуляла с отцом по саду, болтая с ним, и повела его к беседке.
— Как ты думаешь, милый папочка, посылают ли наше «Обозрение» за границу?
— Но оно только что начало выходить.
— Все-таки держу пари, что посылают.
— Вряд ли это возможно.
— Пожалуйста, выясни это и узнай имена заграничных подписчиков.
Через два часа барон сказал дочери:
— Я был прав, за границей нет еще ни одного подписчика. Надеются, что они будут в Невшателе, Берне, Женеве. Правда, один экземпляр посылают в Италию, но бесплатно, одной даме из Милана, в ее поместье на Лаго-Маджоре, около Бельджирате.
— Как ее зовут? — живо спросила Розали.
— Герцогиня д'Аргайоло.
— Вы ее знаете, папенька?
— Я, конечно, слыхал о ней. Она дочь князя Содерини, из Флоренции, очень знатная дама; она так же богата, как и ее муж, обладающий одним из крупнейших в Ломбардии состояний. Их вилла на Лаго-Маджоре — одна из достопримечательностей Италии.
Два дня спустя Мариэтта передала Розали следующее письмо.
«Альбер Саварой — Леопольду Анкену…
Ну да, дорогой друг, я в Безансоне, тогда как ты думаешь, Что я путешествую. Мне не хотелось ничего тебе сообщать, пока я не добьюсь успеха, и вот его заря занимается. Да, дорогой Леопольд, после стольких неудачных попыток, испортив себе столько крови, израсходовав столько сил, лишившись изрядной доли мужества, я решил поступить, как ты: пойти по торному пути, по большой дороге, самой длинной, но самой верной. Воображаю, как ты подскочил в своем кресле нотариуса! Но не думай, что произошли какие-нибудь перемены в моей личной жизни, в тайну которой посвящен лишь ты один, да и то с теми ограничениями, какие потребовала она. Жизнь в Париже меня страшно утомила, хоть я и не говорил тебе об этом, мой друг. Мне стала ясна безрезультатность моего первого предприятия, на которое я возлагал все свои надежды, предприятия, не принесшего плодов из-за коварства обоих моих компаньонов: они сговорились обмануть и разорить меня, хотя были обязаны своим успехом моей деятельности. Увидев это, я решил отказаться от попыток приобрести состояние; напрасно были потеряны три года, причем целый год ушел на тяжбу. Может быть, я не выпутался бы так легко, если б мне не пришлось в двадцатилетнем возрасте изучать право. После этого я решил стать политическим деятелем, главным образом для того, чтобы попасть когда-нибудь в палату пэров с титулом графа Альбера Саварон де Саварюса, и, несмотря на то, что я незаконного происхождения и даже не усыновлен, — возродить во Франции прекрасное имя, угасающее в Бельгии».
— Ах, я была в атом уверена, он знатного рода! — воскликнула Розали, уронив письмо.
«Ты знаешь, что я добросовестно изучил политику, был малоизвестным, но верноподданным и полезным журналистом и неплохим секретарем одного государственного деятеля, покровительствовавшего мне в 1829 году. Вновь превращенный в ничто Июльской революцией в то самое время, когда мое имя начинало приобретать известность, когда я должен был стать наконец как докладчик Государственного совета необходимым колесиком правительственного механизма, я сделал промах, сохранив верность побежденным, борясь за них, хотя они уже исчезли со сцены. Ах, почему мне было тогда только тридцать три года, почему я не попросил тебя выставить мою кандидатуру на выборах? Я скрыл от тебя и опасности, угрожавшие мне, и свое самопожертвование. Чего же ты хочешь, раз я верил в себя! Мы не сошлись бы во мнениях. Десять месяцев назад, когда тебе казалось, что я весел и доволен, занят писанием политических статей, на самом деле я был в отчаянии: я предвидел, что в тридцать семь лет останусь с двумя тысячами франков в кармане, не пользуясь ни малейшей известностью, предвидел неудачу своей очередной затеи — ежедневной газеты, сообразующейся лишь с интересами будущего, а не с политическими страстями данной минуты. Я не знал, на что решиться. Как плохо мне было! Я бродил, мрачный и угнетенный, по пустынным закоулкам ускользавшего от меня Парижа, размышляя об обманутых мечтах своего честолюбия, но будучи не в силах отказаться от них. О, какие письма, проникнутые жестокой болью, писал я тогда ей, моей второй совести, моему второму „я“! Иногда я говорил себе: „Зачем строить такие грандиозные планы? Зачем желать всего? Почему не ожидать счастья, посвятив себя какому-нибудь простому занятию, убивающему время?“
Я начал подумывать о скромном месте, могущем дать мне средства к жизни, и собирался было стать редактором одной газеты, издатель которой, честолюбивый денежный мешок, ничего не смыслил в этом деле. Но меня объял ужас.
„Захочет ли она, чтобы ее мужем сделался человек, опустившийся так низко?“ — спросил я себя. При этой мысли мне показалось, будто мне снова только двадцать два года. О дорогой Леопольд, как слабеет душа, находясь в нерешительности! Как должны страдать орлы в клетках, львы, лишенные свободы! Они страдают так же, как страдал Наполеон, но не на острове Св. Елены, а на набережной Тюильри десятого августа, когда видел жалкую защиту Людовика XVI и мог легко подавить мятеж, что он и сделал на этом самом месте позже, в вандемьере. Так вот, и я испытал эти страдания одного дня, растянувшиеся на четыре года. Сколько речей, предназначенных для Палаты депутатов, произнес я в пустынных аллеях Булонского леса! Эти бесполезные импровизации все же изощрили мой язык и приучили ум свободно излагать мысли. Пока я мучился втайне от тебя, ты успел жениться, уплатить все долги и стать помощником мэра округа, получив вдобавок крест за рану на улице Сен-Мерри.
Слушай: когда я был еще малышом и мучил майских жуков, движения этих бедных насекомых иногда приводили меня в трепет. Это бывало, когда я видел, как они делают все новые и новые усилия взлететь, но все-таки не могут подняться, хотя им удавалось расправить крылья. Мы говорили про них: „Они собираются“. Было ли это сострадание или я предчувствовал свое будущее? О, распустить крылья и не быть в состоянии лететь! Это и случилось со мной после замечательной затеи, от которой меня отстранили, а теперь она обогатила четыре семьи.
Наконец, с полгода назад, заметив, сколько вакансий осталось в парижской адвокатуре после назначения многих юристов на важные должности, я решил попытаться выдвинуться в суде. Но вспомнив о соперничестве, виденном мною в прессе, зная, как трудно добиться чего-нибудь в Париже, на этой арене, где встречается столько бойцов, я принял решение, жестокое, но могущее привести к верному и, быть может, более быстрому успеху, чем все остальные. Беседуя со мной, ты часто описывал общественную жизнь в Безансоне, говорил о невозможности для всякого пришельца выдвинуться там, произвести хоть малейшее впечатление, жениться, попасть в это общество, одержать в нем какой бы то ни было успех. Но именно там я и решил водрузить свое знамя, правильно рассудив, что там удастся избежать конкуренции и что кроме меня там никто не станет домогаться места депутата. Жители Конте не хотят знать „чужака“; ладно, „чужак“ на них и смотреть не будет! Они отказываются допустить его в свои гостиные; ну что же, он никогда не пойдет туда! Он нигде не будет показываться, даже на улице! Но есть еще один слой общества, тоже выбирающий депутатов; это — коммерсанты. Я подробнее изучу торговое право, с которым и так знаком, буду выигрывать процессы, улаживать споры, сделаюсь лучшим безансонским адвокатом. Впоследствии я постараюсь основать журнал, где буду защищать интересы края; я сумею создать или возродить эти интересы и сделать их жизненными. Когда я приобрету, один за другим, достаточно голосов, мое имя появится в избирательных списках. Долгое время к безвестному адвокату будут относиться пренебрежительно, но благодаря какой-нибудь случайности на него обратят внимание; этой случайностью может стать защитительная речь, произнесенная безвозмездно, какое-нибудь дело, за которое другие адвокаты не захотят взяться. Если я выступлю с речью хоть раз, успех обеспечен.