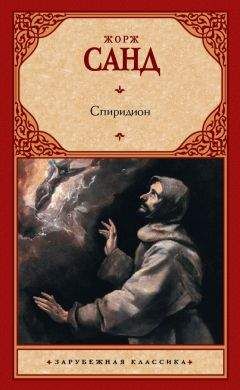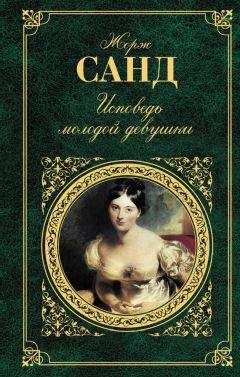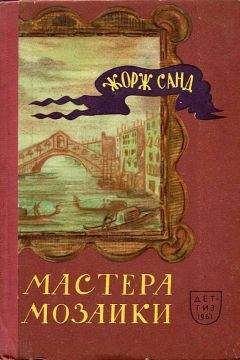Жорж Санд - Спиридион
Мысль о том, что людей, не спрашивая их согласия, обрекают на земную жизнь, полную опасностей и тревог, и на жизнь загробную, полную для большинства из них страданий вечных и неизбежных, исторгала из чистой души Эброния вопли боли и возмущения. «Да, – восклицал он, – да, вы, христиане, – прямые потомки тех неумолимых иудеев, которые, покорив город, истребляли в нем все и вся вплоть до детей, женщин и новорожденных ягнят, а Бог ваш – вошедший в силу сын того жестокосердого Иеговы, который говорил людям, ему поклонявшимся, только о гневе и мести!»
Итак, Эброний полностью разочаровался в христианстве, однако, не зная иной, лучшей религии, он, сделавшись осторожнее и покойнее, решился не давать повода для обвинений в непостоянстве и вероотступничестве и продолжал исполнять все внешние обряды той религии, от которой отрекся внутренне. Мало было, однако, расстаться с заблуждениями, следовало еще отыскать истину. Несмотря на все старания, Эброний не находил ничего на нее похожего. Тогда наступила для него пора страданий непостижимых и ужасных. Сражаясь один на один с сомнением, этот искренний и набожный ум ужаснулся своему одиночеству, и, словно у Христа в Гефсиманском саду, стал пот его как капли крови. А поскольку не имел он иной цели и иной страсти, кроме познания истины, и ничто, кроме нее, не интересовало его в мире земном, он предавался горестным размышлениям всей душою; взгляд его безуспешно блуждал в смутном мире, подобном океану без берегов, а рука безуспешно силилась достать до постоянно ускользавшего горизонта. Сомнения, в которых он тонул, были столь глубоки, столь безысходны, что голова его начинала кружиться, а разум – мутиться. Затем, устав от тщетных поисков и безнадежных попыток, он падал без сил, без мыслей, без желаний и всем своим существом предавался глухой боли, которую ощущал, но не понимал.
Однако у него оставалось еще достаточно воли, чтобы скрывать свои душевные терзания от окружающих. Бледность его чела, медлительность походки, слезы, украдкой стекавшие порой по впалым щекам, выдавали муки, терзавшие его душу, однако источник этих мук оставался неизвестен. Покров печали укрывал тайну настоятеля от глаз монахов. Он никому не открывал причину своей тоски, и потому никто не мог сказать, проистекала ли она от безнадежного неверия или от чересчур пламенной жажды веры, которую ничто на земле не способно было утолить. Впрочем, никто бы и не заподозрил аббата Спиридиона в безверии. Он с такой безукоризненной четкостью следовал всем предписаниям католической церкви и так образцово исполнял все ее обряды, что не давал врагам ни повода, ни причины для упреков. Неподкупная добродетель воздвигала преграду на пути пороков, которым предавались монахи, а неутомимое трудолюбие служило укором их подлой лености, и потому все они дружно его ненавидели и жадно искали способов его погубить; однако, не находя в его поведении и намека на прегрешение, они были вынуждены копить злобу и удовлетворяться зрелищем тех мучений, какие он причинял себе сам. Эброний видел монахов насквозь и, хотя и презирал их беспомощные потуги, возмущался их бессердечием. Поэтому в те редкие мгновения, когда он отвлекался от своих внутренних тревог и бросал взгляд вовне, он жестоко мстил монахам за их козни. Насколько мягко держался он с людьми добрыми, настолько же сурово порицал людей дурных. Сострадая слабым и сочувствуя немощным, он не прощал распутников и не знал жалости к лжецам. Больше того, верша сей справедливый суд, он, казалось, ненадолго забывал о своих терзаниях. Возвышенная душа по-прежнему алкала возможности творить добро. Утратив четкие правила и разочаровавшись в абсолютных законах, он, однако же, повиновался во всех своих поступках голосу некоего инстинктивного разума, которого не отринул бы и не ослушался ни при каких обстоятельствах и который указывал ему путь к истине и справедливости. Пожалуй, именно это и стало той нитью, что связала его с жизнью; ощущая зарождение в своей душе этих благородных чувствований, он говорил себе, что священная искра еще не полностью погасла в нем, что Господь, хотя и укрытый непроницаемым покровом от ума его, не оставил его сердце своим покровительством. Эта ли мысль или что-либо иное вдохнуло в него силы, но постепенно чело его просветлело, а глаза, поблекшие от слез, вновь обрели прежний блеск. Он с нерастраченным пылом взялся за недоконченные труды, а потому сделался еще большим затворником, чем прежде. Враги Эброния поначалу возрадовались, ибо сочли его уединенную жизнь следствием болезни, однако заблуждение их продлилось недолго. Настоятель не только не слабел, но с каждым днем набирался сил и, кажется, черпал бодрость в ежедневном исполнении нелегких работ, какое сам вменил себе в обязанность. С вечера до утра свет не гас в его окне, а когда любопытствующие подходили к его двери, желая узнать, чем он занимается, до их слуха неизменно доносился шорох стремительно переворачиваемых страниц или скрип пера, бегущего по бумаге, или покойные, размеренные шаги человека, который расхаживает по комнате, предаваясь размышлениям. Порой до слуха соглядатаев долетали даже невнятные речи, крики ярости или вопли восторга, при звуках которых они застывали на месте от изумления или спасались бегством, объятые ужасом. Монахи, не понимавшие причин печали аббата, не могли понять и причин его радости. Они принялись искать разгадку его блаженства, цель его трудов и, по неизбывной своей глупости, не нашли ничего лучше, кроме как заподозрить его в приверженности магии. Магии! Как будто великие люди стали бы унижать свой бессмертный ум, низводя его до колдовства, стали бы на страх малым детям вызывать из ада демонов с собачьими хвостами и козлиными копытами! Однако невеждам не понять логики человеческого духа, совам не узнать тех путей, какими орлы взмывают к солнцу.
Впрочем, презренная монашеская свора не осмелилась высказать свое мнение открыто и распространяла свои наветы тайно, не дерзая напасть на учителя в открытую. Ужас, который внушали этим глупцам привидевшиеся им колдовские проделки, охранял настоятеля куда более надежно, чем почтение, какого заслуживали его гений и добродетель. Монахи ожидали, что, подобно огню поядающему из облака, из глубокой тайны, окружающей аббата, родится некое страшное чудо. Благодаря этому Эброний смог провести последние годы, ему отпущенные, в спокойствии. Почувствовав же приближение смертного часа, он призвал к себе Фульгенция, к которому питал чувства отеческие. Он сказал Фульгенцию, что отличил его среди прочих монахов по причине искренности его сердца и пламенной любви ко всему прекрасному и истинному, что уже давно назначил его своим духовным наследником и что хочет открыть ему душу. Рассказав Фульгенцию историю своих исканий и дойдя до последнего периода, он на мгновение задумался, словно не осмеливаясь произнести слова решающие, окончательные, а затем промолвил: «Дорогое дитя мое, я посвятил тебя в историю всех моих борений, всех моих сомнений, всех моих верований. Я поведал тебе обо всем хорошем и обо всем плохом, обо всем истинном и обо всем ложном, что нашел я во всех религиях, какие исповедовал. Тебе быть судьей, тебе произнести приговор. Если ты сочтешь, что я не прав, если католическая религия, которую ты исповедуешь с самого детства, удовлетворяет в равной мере и твой ум, и твое сердце, тогда не следуй моему примеру, сохрани свою веру. Человеку надлежит оставаться там, где ему хорошо. Переход от одной веры к другой пролегает через такие бездны, что я не стану понуждать тебя к этому против твоей воли. Премудрость господня оделила каждое растение особой почвой и особым ветром: роза цветет на равнине, овеваемая бризом, кедр растет в горах, колеблемый ураганом. Есть умы дерзкие и любознательные, которые алчут истины и повсюду ищут ее одну; есть другие умы, более робкие и скромные, которым нужнее всего покой. Если бы ты походил на меня, если бы первой потребностью твоей души были знания, я без колебаний открыл бы тебе все мои мысли. Я дал бы тебе испить из чаши истины, которую наполнил я моими слезами, и не боялся бы напоить тебя допьяна. Однако ты, увы, не таков! Ты создан не для познания, а для любви, сердце в тебе сильнее ума. Ты привязан к католицизму – так, по крайней мере, мне кажется – узами чувства, которые ты не смог бы разорвать без боли; а сделай ты это, истина, во имя которой ты пожертвовал своими привязанностями, не вознаградила бы тебя за твои жертвы. Возможно, вместо того чтобы вселить в тебя силы, она бы их у тебя отняла. Для хрупких организмов эта пища слишком тяжела; одних она животворит, других же удушает. Я не хочу посвящать тебя в то учение, которое составляет гордость моей жизни и утешение моих последних дней, ибо тебе оно, возможно, не принесет ничего, кроме горя и отчаяния. Что знаем мы о душе ближнего? Однако же именно потому, что ты полон любви, от поклонения красоте ты, возможно, перейдешь к потребности в истине, и тогда, быть может, искренний ум твой возжаждет абсолюта. Я не хочу, чтобы в этот час ты тщетно призывал небеса на помощь и чтобы безнадежное невежество исторгало у тебя бесплодные слезы. Я оставляю тебе лучшую часть себя, квинтэссенцию своего ума; в этих нескольких страницах – плод целой жизни, посвященной размышлениям и трудам. Из всех сочинений, писанных мною бессонными ночами, оно одно не стало добычею пламени, ибо оно одно доведено до конца. В нем я высказал себя сполна; в нем – истина. А ведь мудрец велел не зарывать сокровище в землю. Итак, сочинению этому не должно попасть в руки тупых и жестоких монахов. Однако поскольку должно ему оказаться лишь в тех руках, какие достойны к нему прикоснуться, должно открыться лишь тем глазам, которые способны его прочесть, я хочу поставить перед наследниками своими одно условие, хочу подвергнуть их одному испытанию. Я унесу этот труд с собою в могилу, дабы тот из вас, кто захочет его прочесть, отважился одолеть ложные страхи и добыть мою рукопись из гроба, в коем упокоится мой прах. Слушай же мою последнюю волю. Лишь только я испущу дух, положи рукопись мне на грудь. Я сам спрятал ее в чехол из пергамента, который на несколько столетий убережет ее от тленья. Не позволяй никому дотрагиваться до моего тела; обязанность приготовить мой труп к отправлению в последний путь слишком печальна, никто не станет ее у тебя оспаривать. Облачи мои иссохшие кости в саван собственноручно и не спускай глаз с моих останков до тех пор, пока меня вместе с моим сокровищем не укроет земля; ибо и для тебя также не настал еще час познакомиться с написанными мною строками. Ты поверишь мне на слово, но веры твоей недостанет для того, чтобы отражать каждодневные атаки, которые обрушит на тебя католицизм. У каждого поколения, у каждого человека свои умственные потребности, предел коих обозначает и предел тех открытий и завоеваний, какие ему суждено предпринять. Лишь тогда, когда ум твой, подобно моему, ощутит нужду в полном обновлении, лишь тогда сможешь ты с пользою прочесть эти строки, которые я вверяю безмолвию могилы. Лишь тогда сбросишь ты без страха и сожаления старые одежды и с чистой совестью облачишься в новые. Когда этот день наступит, тогда, ни о чем не тревожась и не опасаясь прогневить Господа, не страшась ни камня, ни металла, открой мой гроб и без колебаний погрузи руку в ту горсть иссохшего праха, что прежде была мною. О! в этот час, кажется мне, мое остановившееся сердце затрепещет, подобно заледеневшей траве под первыми лучами весеннего солнца, а ум мой, прервавши круг бесконечных превращений, войдет в непосредственное сношение с твоим: ибо ум не умирает, ум вечно рождает другой ум и вечно его питает; он служит пищей тому, чему дает жизнь, и подобно тому, как в мире материальном всякое разрушение одного здания влечет за собою построение другого, так в мире умственном всякому порыву вдохновения служит ответом другой порыв, связанный с первым узами невидимыми; сообща поддерживают они огонь в святилище ума».