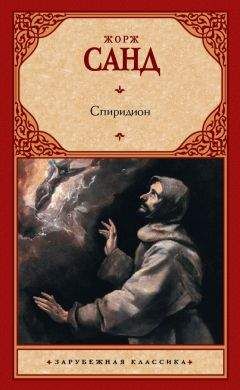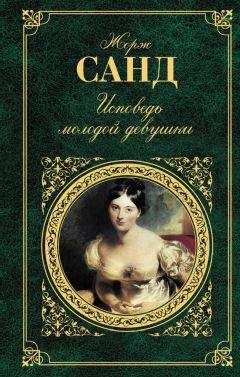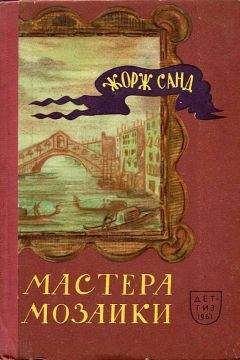Жорж Санд - Спиридион
– Скажи, Анжель, ты видел его средь бела дня?
– Да, отец мой, в поддень. Вы уже спрашивали меня об этом.
– А солнце светило ярко?
– Оно освещало его лицо.
– Ты видел его только один раз?
Я не смел ответить; я боялся, что стал жертвой иллюзии и собственными заблуждениями лишь укреплю те, во власти которых пребывает Алексей.
– Ты видел его еще один раз! – вскричал он нетерпеливо. – Видел и ничего не сказал мне!
– Добрый мой учитель, что вам за дело до видений, которые, возможно, суть не что иное, как плоды случайного совпадения или простой игры света?
– Анжель, что вы говорите? Сами умолчания ваши для меня красноречивее слов. Говорите, я требую! Если вы не расскажете мне всего, что знаете, я не смогу умереть спокойно!
Не в силах противиться его напору, я рассказал об ужасе, который испытал в ризнице, когда, очнувшись от продолжительного обморока и будучи уверен, что нахожусь в полном одиночестве, услышал чьи-то слова и увидел чью-то тень, причем не мог приискать ни тому, ни другому правдоподобных объяснений.
– Что же это были за слова? – спросил Алексей.
– Обращение к Господу с просьбой спасти жертв невежества и лжи.
– А как он звал того, к кому обращался? Он говорил: «О Дух?» Или: «О Иегова?»
– Он говорил: «О Дух мудрости!»
– А на что была похожа та тень?
– Не знаю. Она явилась из тьмы и растворилась в луче света, падавшем из окна, так быстро, что у меня недостало ни времени, ни отваги, чтобы ее рассмотреть. Но послушайте, учитель, я был уверен, что эти слова произнесли вы, я думал, что вы стояли у окна и говорили с самим собой…
Алексей недоверчиво покачал головой.
– Разве можете вы знать наверное, что не делали этого? Ведь вы в ту пору постоянно бродили по саду и были, как всегда, погружены в собственные мысли?
– Скажи, видел ли ты его еще когда-нибудь? – перебил меня Алексей с силой и страстью. – Ты не хочешь сказать мне всей правды, ты хочешь, чтобы я умер, не открывшись родственной душе, не завещав никому моей тайны! Ответь мне, по крайней мере, на другой вопрос. Когда в солнечные дни ты прохаживался в одиночестве по уединенным аллеям сада и, предаваясь горестным размышлениям, призывал на помощь милосердное провидение, не слышал ли ты за своей спиной звука чужих шагов?
Я вздрогнул и признался, что этот звук преследовал меня не далее как вчера в зале капитула.
– И ты никого не видел?
Я рассказал о чудесном действии, какое оказали солнечные лучи на портрет основателя монастыря. Отец Алексей исступленно сжал руки и несколько раз повторил:
– Это он, это он!.. Он избрал тебя, он тебя послал, он хочет, чтобы я открылся тебе. Что ж! Я расскажу тебе все. Слушай внимательно и оставь пустое любопытство. Прими мою исповедь, как принимают цветы на заре сладостную небесную росу. Слышал ли ты когда-нибудь о Самуиле Эбронии?
– Да, отец мой, если это то же самое лицо, что и аббат Спиридион.
И я пересказал ему все то, что услышал давеча от казначея. Отец Алексей презрительно пожал плечами и начал свой рассказ:
– В мире плотском люди завещают своим близким богатства материальные. Но бывают узы более благородные и наследство более святое. Тот, кто всю жизнь всеми возможными способами, напрягая все силы, искал истину и в результате усердных трудов и ученых занятий сделал кое-какие открытия в безграничной сфере умственной, тот, не желая унести с собой в могилу отысканное сокровище и позволить исчезнуть во тьме сверкнувшему перед его взором лучу света, спешит избрать среди своих современников человека более молодого, который был бы близок ему по духу и которому он мог бы перед смертью поверить свои мысли и знания, дабы святое дело не прекратилось за смертью первого труженика, дабы другие подхватили его, углубили и расширили и, продолжаясь из рода в род, оно в конце времен осуществилось бы сполна. И поверь, сын мой, что тому, кто берется за продолжение подобных трудов, кто принимает подобное наследство, потребен благородный ум и великое самоотвержение, ведь человеку этому известно заранее, что он не узнает той великой тайны, разгадке которой посвятит всю свою жизнь. Прости мне мою гордыню, дитя мое; быть может, она останется единственной наградой, которую получу я за всю мою многотрудную жизнь; быть может, она окажется единственным колосом, выросшим на каменистом поле, которое я всю жизнь рыхлил в поте лица моего. Я – духовный наследник отца Фульгенция, а ты, Анжель, станешь моим наследником. Отец Фульгенций был здешним монахом; в юности он имел счастье знать основателя монастыря, нашего высокочтимого учителя Эброния, или, как его именуют здесь, аббата Спиридиона. В ту пору Фульгенций сделался для Эброния тем, чем ты, сын мой, сделался для меня; он был юн и добр, неопытен и робок, как ты; учитель любил его, как люблю тебя я, и посвятил его не только в иные из своих тайн, но и в историю своей жизни. Таким образом, то, что я расскажу тебе, я знаю от наследника нашего учителя.
При рождении своем Петр Эбронии носил другое имя. Его звали Самуилом. Он был иудей и появился на свет в деревушке неподалеку от Инсбрука. Родные его, люди очень богатые, позволили ему самостоятельно избрать в ранней юности род занятий. Занятия же, к которым он с самого детства выказывал склонность, были самые серьезные. Он любил уединение и проводил дни, а порою и ночи в прогулках по скалистым горам и узким лощинам родного края. Часто усаживался он на берегу быстрых потоков или тихих озер и долгое время оставался недвижим, внимая плеску волн и пытаясь разгадать смысл, какой вкладывает природа в их голос. Чем старше он становился, тем любознательнее и серьезнее делался его ум. Родители поняли, что надобно дать ему солидное образование, и отправили его в один из немецких университетов. Прошло чуть больше ста лет со дня смерти Лютеpa, и память о нем и о его учении еще жила в сердцах и умах верных его учеников. Новая вера продолжала завоевывать сторонников и, казалось, переживала пору наивысшего расцвета. Реформаты пылали тем же рвением, что и в первые дни, хотя чувство их сделалось более просвещенным, более умеренным. Прозелитизм их ничуть не угас и каждый день завоевывал Лютеровой вере новых адептов. Слыша, как последователи Лютера проповедуют мораль и толкуют догматы, унаследованные лютеранством от католицизма, Самуил не мог сдержать восхищения. Будучи наделен от природы умом искренним и смелым, он тотчас сравнил те доктрины, о каких рассказывали ему теперь, с теми, в поклонении которым он был воспитан, и сравнение это помогло ему понять несовершенство иудаизма. Он сказал себе, что религия, которая создана для одного-единственного народа и отторгает от себя все остальное человечество, религия, которая не дает уму ни удовлетворения в настоящем, ни уверенности в будущем, которая презирает живущую в сердце человеческом благородную потребность в любви и дает людям в качестве закона одно лишь варварское правосудие, – такая религия не подобает прекрасным душам и великим умам, а тот, кто объявляет свою переменчивую волю средь громовых раскатов и внушает свои недалекие мысли рабам, объятым низким страхом, не может быть Богом истинным. Человек искренний и последовательный, Самуил всегда говорил то, что думал, и делал то, что говорил; поэтому, прожив год в Германии, он торжественно отрекся от иудейской веры и принял веру реформатскую. Не умея ничего делать наполовину, он решил, насколько было это в его силах, совлечься ветхого человека с делами его и облечься в нового [5] ; в эту-то пору он и поменял имя и из Самуила сделался Петром. В течение некоторого времени он исследовал новую веру и укреплялся в ней. Вскоре изощрил он свои познания до такой степени, что стал искать противников, с которыми мог бы поспорить, и возражений, которые мог бы опровергнуть. Отважный и деятельный от природы, он, не долго думая, взялся за предприятие самое трудное. Первым католическим автором, которого он принялся изучать, был Боссюэ. Приступил он к нему с некоторым пренебрежением; свято веруя в то, что религия, которую он только что избрал, есть средоточие чистой истины, он презирал все возможные нападки, которым может она быть подвергнута, и опрометчиво почитал смешными неопровержимые доводы Орла из Мо [6] . Однако ироническая его недоверчивость очень скоро сменилась изумлением, а затем и восторгом. Когда он увидел мощную логику и грандиозную поэзию, посредством которых французский прелат защищает Римско-католическую церковь, он сказал себе, что дело, отстаиваемое таким адвокатом, заслуживает по меньшей мере почтения, а затем, следуя естественному ходу мыслей, пришел к выводу, что великие умы посвящают себя лишь великим идеям. Тогда он принялся изучать католическую доктрину с тем же рвением и с тем же беспристрастием, что и доктрину лютеранскую, причем подспорьем служили ему не придирки и насмешки, к каким обычно прибегают сектанты, но разыскания и сопоставления. Он отправился во Францию, дабы получить сведения о церкви-прародительнице от славнейших ее священнослужителей, подобно тому как получил он в Германии сведения о реформатской церкви от священнослужителей-реформатов. Он свел знакомство с великим Арно, с Фенелоном – достойным преемником Григория Назианзина – и даже с самим Боссюэ. Под руководством этих наставников, чья добродетель внушала почтение к исповедуемым ими верованиям, он быстро постиг тайны католической морали и католических догматов. Он нашел в католицизме все то, что составляло в его глазах величие и красоту протестантизма, а именно веру в Бога единого и вечного, которую обе эти религии переняли у иудаизма, а равно и те догматы, которые, казалось бы, естественно вытекали из этого, главного, но которые, однако же, остались иудаизму чужды: веру в бессмертие души, в свободу воли в земной жизни и воздаяние за добрые и злые поступки в жизни загробной. Он нашел в католичестве ту возвышенную мораль, которая проповедует людям равенство, братство, любовь, милосердие, преданность ближним и забвение самого себя, причем мораль эта имела у католиков вид едва ли не более чистый и величественный, чем у адептов всех прочих вероисповеданий. Вдобавок он обнаружил в католичестве всемогущую силу и всеобъемлющую целостность, каких недоставало религии Лютера. Правда, эта последняя завоевала для людей право на свободу суждения, в которой натура человеческая также испытывает большую нужду, и провозгласила господство индивидуального разума; однако тем самым она отказалась от принципа непогрешимости, представляющего собой необходимое основание и условие существования всякой религии, явленной в откровении, ибо всякая вещь может существовать лишь в согласии с законами, предшествовавшими ее рождению, и значит, одно откровение может быть подтверждено и продолжено лишь с помощью другого. А непогрешимость и представляет собою не что иное, как откровение, длящееся по воле самого Господа или Слова, воплощенного в его наместниках. Лютеранская же религия, притязавшая на общее с католичеством происхождение и, следовательно, тщившаяся опереться на то же самое откровение, разорвала узы, которые от века связывали христианство в целом с этим откровением, и таким образом подорвала своими собственными стараниями здание своей веры. Подвергнув свободному обсуждению дальнейшее существование религии, некогда явленной в откровении, она тем самым поставила под сомнение и первоначальный ее этап, а следовательно, покусилась на тот неприкосновенный исток, который роднил ее с религией-соперницей. Поскольку ум Эброния жаждал в ту пору не критики, а веры и нуждался не столько в спорах, сколько в убеждениях, он естественным образом предпочел убежденность и властность католицизма свободе и сомнениям протестантизма. Тяга к католицизму лишь усиливалась в нем при виде тех следов священной древности, какие запечатлело время на обрядах церкви-прародительницы. Наконец, роскошь и блеск римско-католического культа представлялись этому поэтическому уму гармоническим и неизбежным выражением религии, явленной в откровении Богом славы и всемогущества. После продолжительных размышлений он признал себя искренне и всецело убежденным в превосходстве католической веры и принял новое крещение от самого Боссюэ. К имени Петр прибавил он имя Спиридион, дабы двойное это именование напоминало ему о том, как дважды воссиял ему свет духа. Решившись посвятить всю свою жизнь поклонению новому, католическому Богу, призвавшему его к себе, и все более и более глубокому постижению католического учения, он отправился в Италию и там на деньги, оставленные ему одним из родственников, который, подобно ему, перешел в католичество, выстроил тот самый монастырь, где пребываем мы с тобой. Верный закону, в согласии с которым были созданы первые религиозные общины, Эброний собрал вокруг себя монахов, прославленных умом и добродетелью, дабы вместе с ними отдаться поискам истины и с помощью науки споспешествовать утверждению и процветанию веры. Поначалу предприятие его, казалось, имело успех. Поощряемые примером самого Эброния, товарищи его в течение нескольких лет ревностно предавались ученым занятиям, молитвам и размышлением. Они избрали своим покровителем святого Бенедикта и приняли устав его ордена. Когда настал час избрать духовного главу, они единогласно остановили свой выбор на Эбронии, и папа римский утвердил это решение. Новый настоятель, гордый доверием братьев по духу, продолжил свои труды с еще большим рвением и еще большими надеждами, чем прежде. Однако иллюзии его очень скоро рассеялись. По прошествии недолгого времени он понял, что жестоко ошибся в отношении тех людей, которых избрал себе в соратники. Поскольку все они принадлежали к числу беднейших монахов Италии, то в первые годы пребывания в монастыре охотно выказывали рвение и тщание. Привыкнув к существованию суровому и многотрудному, они легко согласились выполнять волю Эброния и жить так, как предписывал он. Однако достаток развратил их, они стали отлынивать от работы и постепенно уподобились изъянами и пороками более богатым своим собратьям, чьи излишества, памятные им с прежних лет, оказали на них пагубное воздействие. Умеренность уступила место невоздержанности, трудолюбие – лености, добротворение – эгоизму; днем они больше не молились, ночью не бодрствовали; злословие и чревоугодие, две нечистые страсти, правили бал в монастыре; следом туда проникли невежество и грубость, обратившие храм, предназначенный для строгих добродетелей и благородных трудов, во вместилище постыдных наслаждений и подлой праздности.