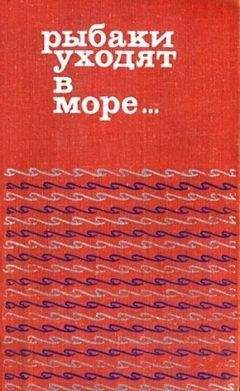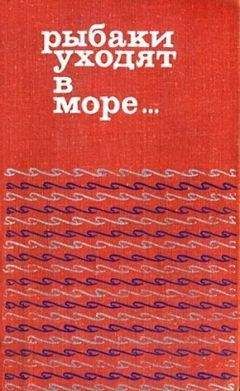Оулавюр Сигурдссон - Избранное
Однажды вечером я зашел в библиотеку, где вообще бывал довольно часто. Помнится, нужно было вернуть два романа. С другой стороны, я очень хотел подыскать несколько иностранных сборников коротких рассказов, чтобы предложить читателям «Светоча» образцы настоящей литературы.
Я уже довольно долго изучал книги на полках, когда на меня вдруг нахлынули воспоминания о моей комнатушке, о холодном январском дне 1940 года, о полученном мною письме, о зеленом доме на углу улицы Сваубнисгата и переулка Киркьюстигюр, о мемориальной церемонии в Соборе, о Празднике республики в долине Тингведлир и о демонстрации в Рейкьявике на следующий день. Среди толпы в Тингведлире я дважды видел Хильдюр Хельгадоухтир в белой студенческой фуражке. Она была там с матерью и братом, а на демонстрации 18 июня она была с подругой, светловолосой и коренастой, по-видимому, они учились в одном классе. Сейчас она стояла рядом со мной, листая одну книгу за другой. Она показалась мне бледнее, чем раньше, и по контрасту ее каштановые волосы выглядели совсем черными. Она и виду не подала, что заметила меня. А пока я собрался заговорить с ней, нас оттерли друг от друга, и я, выбрав несколько сборников, направился к библиотекарю. Пойти домой и засесть за чтение или вернуться в редакцию и поработать там некоторое время? Я медлил, стоя в коридоре библиотеки. Дело шло к десяти часам. Читатели скоро разбредутся кто куда. Наконец я тоже вышел на улицу и задержался у подъезда, раздумывая о том, куда пойти и чем заняться.
Домой? Зайти в «Скаулинн» выпить кофе? Или немного поработать в редакции?
Хильдюр Хельгадоухтир взяла, как и я, две книги. Заметив меня у выхода, она кивнула, и я протянул ей руку.
— Здравствуй, — сказала она просто.
— Поздравляю, — сказал я.
Она сделала большие глаза.
— С аттестатом зрелости, — пояснил я.
Она усмехнулась.
— Аттестат зрелости!
— Я читал в какой-то газете, что ты получила премию. За сочинение.
— Ничего особенного там не было! — вежливо улыбнулась она и, похоже, хотела уйти.
— Не хочешь ли выпить чашечку кофе? — спросил я. — Например, в «Скаулинне»?
— Спасибо. Я тороплюсь домой.
— Можно я провожу тебя немного? — предложил я.
Холодный ветер дул нам в лицо, пока мы шли к зеленому дому на углу Сваубнисгата и Киркьюстигюр. — Ты учишься в университете?
Она покачала головой.
— Я работаю в конторе, и дома дел тоже предостаточно. Мама тяжело болела, но сейчас уже поправляется.
— Собираешься учиться дальше? — спросил я.
— Да, — ответила она коротко. — Если все будет хорошо.
— Здесь или за границей?
— Надеюсь, здесь, но это пока только планы.
Разумеется, она изменилась. Из подростка превратилась в молодую женщину. Правда, перемены в ней не поддавались четкому определению. Голос, например, был уже не столь задорным, он стал гораздо более бесстрастным, а может, это строгая сдержанность гасила и задор, и теплоту, и недовольство. Наверное, тяжело переживает гибель отца, подумал я, но не решился выразить соболезнование. Потом вспомнил ее деда, к семидесятилетию которого зимой 1940 года написал несколько строк. На мой вопрос о нем она сказала, что он умер. Я пробормотал, что мне очень жаль, но Хильдюр, быстро взглянув на меня, спросила:
— Разве это не закон природы? Он был очень стар, ведь давно перешагнул за семьдесят.
Я обратил внимание, что на руках у нее розовые перчатки, совсем как в 1940 году. Некоторое время мы шли молча, потом она спросила, по-прежнему ли я работаю в еженедельнике «Светоч».
Я кивнул и рассказал, что планируется обновление журнала.
— Давно пора! — усмехнулась девушка.
Я почувствовал себя школьником, которому сделали выговор. Когда показался зеленый угловой дом, Хильдюр снова нарушила тягостное молчание, спросила, живу ли я на улице Аусвадлагата.
— Да, — ответил я.
Откуда она знает мой адрес? Помнить его она не могла. Вероятно, кто-то из одноклассников, знавший дочерей Бьярдни Магнуссона, упомянул о нем. Она подтвердила мое предположение насчет дочерей Бьярдни-вербовщика, как она выразилась.
— Он же управляющий, — сказал я.
— А еще его зовут Вербовщиком. Вербовщиком голосов. Может быть, это некрасиво, как по-твоему?
В ее безучастном, даже тусклом голосе вдруг проскользнула ирония. Я так удивился, что не мог вымолвить ни слова. Да, действительно, с приближением выборов Бьярдни Магнуссон всегда становился вербовщиком голосов и запускал свои должностные обязанности. Но мне не хотелось ни насмехаться над моим квартирным хозяином, ни критиковать его за занятость общенародными делами. «Дочери Бьярдни-вербовщика»… не было ли в ее голосе издевки или какого-то иного оттенка? Может, я ослышался?
— Ну, вот я и пришла, — сказала она, останавливаясь на тротуаре перед зеленым домом. — К сожалению, не могу тебя пригласить. Так уж получается.
— А я и не ожидал приглашения, — пробурчал я, глядя на часы в свете уличного фонаря. — Мне надо поскорее домой, просмотреть эти книги.
— Но ты вроде собирался в «Скаулинн»?
— Нет, это не обязательно.
— Жалко, что я не могу пригласить тебя на чашку кофе, — сказала она.
— Ничего страшного. Я только хотел поговорить с тобой немного и выяснить небольшое недоразумение.
Хильдюр удивленно уставилась на меня, и я напомнил, что однажды она назвала меня Студиозусом, но это не соответствовало действительности. Ведь стихи в «Светоче» за этой подписью были не мои, а чужие. Сам я давно перестал сочинять стихи.
Молчание.
— Если я и назвала тебя Студиозусом, то чтобы подразнить, — сказала она наконец, и выражение ее лица так потеплело, что я даже вздрогнул. — Прости, — продолжала она, снимая розовую перчатку, — прости, что назвала тебя Студиозусом!
— Нечего тут прощать, — пробормотал я, удивляясь, какая у нее холодная рука. — До свидания.
Если мне не изменяет память, я держал ее руку в своей чересчур долго. Может, потому, что рука была очень холодная, а может, ее пальцы реагировали иначе, чем зимой 1940 года.
— Всего хорошего, — улыбнулась она, входя в дом. — Желаю успеха в обновлении журнала.
Я не пошел мимо дома 19 по улице Сваубнисгата, где сочинил для Хельгадоухтир стихотворение к юбилею ее покойного деда Торлейвюра Эгмюндссона, а зашагал через мост к Озерцу. Ветер стал как будто еще пронзительнее. Должно быть, градусов семь-восемь мороза, подумал я. Как же, наверно, мерзла Хильдюр, ведь она так легко одета. Я был недоволен собой, своим глупым поведением. Зачем нужно было заставлять девушку в такой холод идти домой пешком? Зачем во что бы то ни стало нужно было выяснять, почему на пасху 1940 года она назвала меня Студиозусом, автором текстов к танцевальным мелодиям? «Доброй ночи, Студиозус!» — сказала она тогда. Что мне в ее ошибке? Почему я давным-давно не поправил ее, раз мне было не по душе, что она перепутала меня со Студиозусом, с моим знакомым Стейндоуром Гвюдбрандссоном?
Ночь была ясная, на небе ни облачка, только россыпь звезд да месяц на ущербе, но я не обращал внимания на всю эту красоту. Как я уже говорил, я спустился к Озерцу и направился дальше по улице Скотхусвегюр. Если память мне не изменяет, я шагал по улице Тьярднаргата, когда увидел впереди двух парней. Навстречу им из-за угла вышли двое солдат, остановились, поравнявшись с парнями, и в мгновение ока с кулаками набросились на них. Один из парней как подкошенный рухнул на землю, а другой кое-как пытался защищаться. В эту минуту подъехала какая-то машина. Едва она затормозила, солдаты со смехом бросились наутек и пропали во тьме за углом кладбищенской стены. Я подошел к парням одновременно с тремя крепкими мужчинами, выскочившими из машины. Сбитый с ног пытался встать. Выглядел он ужасно: под глазом синяк, губы разбиты, из носа текла кровь. Другой парень отделался мелкими ссадинами.
— Что случилось?
— Эти мерзавцы спросили, сколько времени, и бросились на нас, когда Бьёсси посмотрел на часы!
— Американцы?
— Да.
— Пьяные?
— Да не похоже.
— Эта «игра» уже вошла у них в привычку, — сказал один из троих, носовым платком вытирая кровь с лица парня. — Безобразие! Сейчас же едем прямо в полицию и подадим жалобу на этих негодяев!
— Стоит ли?
— Это наш долг, — решительно ответил автомобилист, попросив второй платок. — Тебе надо к врачу, голубчик! Сколько тебе лет?
— Семнадцать.
Все пятеро уселись в машину и уехали, а я уже не рискнул идти дальше по этим безлюдным местам и сделал крюк, твердо решив избежать встречи с солдатами. Ежели что, перемахну через низкую изгородь — и вниз к Озерцу.
К счастью, до самого дома Бьярдни Магнуссона мне больше не встретилось ни одного солдата. Я так испугался, глядя на окровавленное лицо, парня, что, когда у дома Бьярдни остановилась военная машина, у меня сильно забилось сердце и я на всякий случай приготовился бежать куда глаза глядят. Дверца открылась, и из нее вылез рослый мужчина в форме офицера американской армии. Он придерживал дверцу, пока из машины не вышла нарядная девушка. Мужчина склонился перед ней, взял ее руку, словно актер в кино, и поднес к губам, поклонившись еще раз. В это время я и поравнялся с ними. Зря я боялся: девушка была Ловиса, дочь моих хозяев.