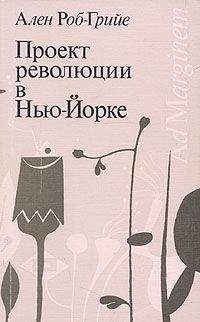Морис Бланшо - Рассказ?
И еще. Деррида подчеркивает особое значение двух оборотов, употребленных Бланшо в самом конце. Это, во-первых, как нельзя далекое от тавтологии двойное утверждение, под-тверждение да, да, каковое, замыкая кольцо вечного возвращения, запускает механизм, обеспечивающий возможность коммуникации и существование дискурса, его со-бытие с событием (в книге о Бланшо Деррида называет его, в частности, и “подтверждением брачного союза”). Деррида обращается к этой высказывательной структуре во многих своих текстах, см., в частности, “Улисс-граммофон” (Ulysse gramophone, Galilee, 1987).[46] (В то же время следует вспомнить, что в “Литературном пространстве” цитируется Рильке, называвший смерть “der eigentliche Ja-sager”, подлинной поддакивательницей, прорекательницей “Да”.) Во-вторых, вполне уместный и в обращении с сиренами призыв viens! — приди! — ответ тому, что призываешь, каковой стал темой далеко заходящих построений в “Pas” из “Прибрежий”. По-русски он разлучен, правда, с однокоренным ему французским evenement — событие,[47] так что отметим лишь, что это же слово — и апокалиптические прииди и гряду.[48]
Отметим также и внезапность появления “ты” на последней странице. Ты встречается у Бланшо не часто, но достаточно регулярно, однако в физическом мире оно табуировано и появляется крайне редко:[49] на ты он обращается, как правило, к инстанциям, соседствующим с трансцендентностью (см., например, вторую часть “Последнего человека”), оформленной чаще всего под маской среднего рода, тогда как далеко заходящие на пути персонификации абстрактные понятия (мысль, идея, жизнь) у него, как правило, женского рода, как и здесь, где внезапно приходящая мысль накрывает собой всех женских персонажей рассказа; в дальнейшем подобное сращение персонажей с метафизическими сущностями достигнет апогея в “Последнем человеке” и в “Ожидании, забвении”.
К тому же пространству умирания, что и в “Смертном приговоре”, Бланшо подступает в “Темном Фоме” и возвращается в “Последнем человеке”, где заходит много дальше по кольцевой дороге (к/от) смерти: первая часть представляет здесь собой коллизии бесконечно, то есть нарушая любые временные структуры, возвращающегося умирания, вторая — взгляд на жизнь и смерть из какой-то третьей зоны — быть может, вновь пространства умирания, пересекаемого на сей раз по кольцу вечного возвращения в обратном направлении.
…Рассказ? Нет, никаких рассказов, больше никогда.
“БЕЗУМИЕ ДНЯ” (La Folie du iour). Написанный в конце 40-х годов рассказ отдельным изданием вышел в свет под этим названием в издательстве Fata Morgana лишь в 1973 году и стал в дальнейшем, вероятно, наиболее “комментируемой” из книг писателя (что частично объясняется как раз такой странной “пересадкой” из одной литературно-философской эпохи в другую) — трактовкам этого текста среди прочих посвятили специальные (как правило, заметно превосходящие объемом свой источник) этюды и Левинас, и Сиксу, и Деррида. Последний, со свойственным ему интересом к кромкам текста, уделил особое внимание (наряду с зацикленностью повествования) тому факту, что впервые произведение это, оставшись почти не известным, увидело свет в 1949 году в альманахе “Эмпедокл” под названием “Рассказ?” (на обложке) или “Рассказ” (в оглавлении и, собственно, в названии рассказа).[50] Если Деррида интересует в основном формальная структура текста и проблема заглавия, то Левинас и Сиксу обращаются прежде всего к его “содержанию” и пытаются дать, соответственно, символическое его толкование (перевод на собственный философский идиолект) и психоаналитически окрашенную феминистическую расшифровку.
Как обычно, сложность смысловой полифонии начинается уже с названия, хотя формально оно находится с основным текстом не в столь сложных отношениях, как заглавие первой версии. С одной стороны, La Folie du jour — почти идиоматический оборот, отсылающий к вздорности потребы дня, сиюминутной сенсации, взбалмошности текущего момента. Буквальное же значение этого оборота — безумие (la folie) дня (du jour). Однако по-французски jour — это не только день, но и (дневной) свет, и эта двусмысленность, порождающая целый пучок трактовок,[51] постоянно подкрепляется в тексте, ибо дневной свет, обеспечивающий возможность видеть, становится лейтмотивом всего повествования. Свет делает зрение возможным, но “увидеть свет” (появиться на свет, родиться) отнюдь к зрению не отсылает, сам свет не относится к зримому, являясь лишь его условием. В этом и заключается безумие: видишь свое видение — видишь не при свете дня, а сам свет дня, невидимое условие любого видения. Увидел свет (вышел в свет) — в этом фразеологизме лишний раз кристаллизуется столь важная для Бланшо связь жизни/смерти (письма) со светом.
Форма рассказа (как замечает Деррида, часть рассказа содержит здесь в себе целое в качестве своей части) обеспечивает ему бесконечность, замыкает в кольцо вечного возвращения и тем самым вместе с концом рассказа исчезает (или особо маркируется) и его начало. Ж. Деррида придает особое значение тому, что первое слово текста — je (я), а последнее — jamais (никогда). Первая же фраза вводит в атмосферу универсальной негации (бессилия, кастрации, настаивает Сиксу), напоминающей (в который раз) и негативную теологию, и каноническую формулу ("ни то, ни то”) “Брихадараньяка упанишады”. в очередной раз предвещая появление в “Бесконечной беседе” основного философского понятия Бланшо — le neulre. Как заявляют многие комментаторы, этот апофатический ход, наряду с не раз подчеркивающимся всемогуществом говорящего: “я”, отсылает к Господу Богу (г-ну Тэсту, Романтическому Гению), в силу всемогущества не снисходящему до ограничения в форме творчества — до роли Демиурга (это подчеркивает и двусмысленность фразы: “Я сказал себе: 'Боже, что ты делаешь?’ ”); действительно, кто кроме Бога — и, может быть, ночи — может видеть (т. е. быть вне его) всеобъемлющий день?
Это один из доводов, побуждающих Элен Сиксу видеть у Бланшо яркий образец мужского письма и подспудно осуждать его в противовес анализируемым ей параллельно текстам Клариссы Лиспектор. Вкратце ее подсознательные упреки сводятся, судя по всему, к тому, что текст Бланшо не впускает читателя внутрь, причем в силу своей формальнотопологической структуры (той самой “двойной хиазматической инвагинации”, о которой так много говорит Жак Деррида) он даже лишен, собственно, внутренности — для женщины вариант кастрации, ибо отсутствие функции приятия для женщины неприемлемо. “Вот мое безумие, но вам в него не войти”, - такова, по мнению Сиксу, позиция рассказчика, которого она, подчеркнуто не колеблясь, отождествляет с самим Бланшо, — что, как и в случае “Смертного приговора”, оправдано лишь до определенной степени.
Вслед за Деррида, Сиксу подверстывает к анализу этого рассказа психоаналитический разбор одного ставшего с тех пор знаменитым фрагмента “Кромешного письма”. Вот этот центральный, по мнению большинства критиков, для всей книги текст:[52]
(Первичная сцена?) Вы, живущие позже, близкие не бьющемуся более сердцу, представьте, представьте себе: ребенок — сколько ему, семь, может быть, восемь лет? — стоит и, отодвинув занавеску, смотрит через оконное стекло. Он видит сад, зимние деревья, стену дома: вполне по-детски наглядевшись на это привычное место своих игр, он неспешно всматривается в небо над головой, самое заурядное небо с облаками в сером свете тусклого и лишенного дали дня.
Вот что происходит далее: небо, то же самое небо, неожиданно раскрывается, абсолютно черное и абсолютно пустое, выказывая (как сквозь разбитое стекло) такое отсутствие, будто все в нем извечно и навсегда утрачено, утрачено до такой степени, что тут же утверждается и рассеивается головокружительное знание: все, что имеется, — ничто, а прежде всего, ничто и за этим. Неожиданно в этой сцене (ее нескончаемая черта) тут же захлестывающее ребенка ощущение счастья, опустошительная радость, которую он может проявить только слезами, бесконечным потоком слез. Приняв это за детские печали, его пытаются утешить. Он ничего не говорит. Отныне он будет жить в секрете. Он больше не будет плакать.
Большое внимание — более чем правомерно — уделяет Сиксу и структуре родов употребляемых Бланшо ключевых слов, хотя подобные наблюдения разумнее проводить в масштабах всего корпуса его текстов. Практически всегда в его прозе абстрактные “действующие лица” — общие понятия, достигающие чуть ли не стадии олицетворения (такие как закон, идея, мысль — см. также и “Смертный приговор”), оказываются женского рода (что в случае закона вызвало в настоящем тексте определенные сложности с переводом). И еще одно наблюдение. Встречающиеся в “Безумии дня” “необязательные” слова игра (jeu) и крыша (toit) полностью омонимичны двум существенно более значимым — я (je) и ты (toi); колено (genou) распадается на, опять же, я и мы (nous).