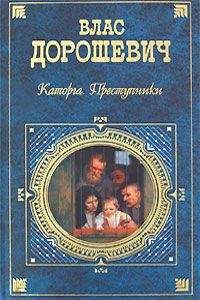Сахалин - Дорошевич Влас Михайлович
- Так вы бы хозяину-то лучше сказали, какое дело затевается. Ведь "ангел был человек".
- Говорил! - махнул рукой Милованов. - Ничего не вышло. И внимания не взял. Мне хозяина-то было жалко. Удосужился, говорю: "Ты, мол, хозяин, поглядывай!" - "А, чего, - говорит, - мне поглядывать?" - "А, так, мол, не вышло бы чего!" - "А чего?" - говорит. "А того, мол, поглядывать надоть!" - "Шел бы ты, - говорит, - дядя Карп, мешки из сарая носить, чем неизвестно что болтать, право!" Так и вниманья не взял. Я свое сделал, что полагается, я сказал, а уж там его было дело, как раздумать. А напрямки-то нам тоже говорить не полагается. Мужнино - женино дело. Это уж сам разбери. Наше дело сказать. Так через себя и погиб человек! Пошел это посля полдень: "Я, - говорит, - в сторожку заснуть пойду". В лесу это сторожка была. "Дома, - говорит, - от мух беспокойно". Я дядю Анисима и подтолкнул: "Да и нам, мол, зевать не приходится!" Пошел это дядя Анисим в горницу, принес ружьишко.
- Ничего я про это дело не знаю!
- Не приносил, скажешь, ружья? Ах, хитрая душа - человек! Ах, хитрая! Эк, языком-то вертит! И туды и сюды, куды хочешь, повернет! Ах ты, прости, Господи! - покачал Милованов головой в высшей степени укоризненно. - Пошли мы с дядей Анисимом к сторожке. Подобрались это тихохонько. Боязно. А ну, как встанет, да нас лупить примется. "Посмотри, - говорю, - дядя Анисим, в дверочку!" - "Нет, - говорит, - уж ты, дядюшка Карп, смотри!" Совсем плохой мужик дядя Анисим. Так оплошал. Бечь хотел. "Ну, уж это нет, - говорю, - брат! Уж вместе шли, и будь при этом!" Дверка-то так приотворена, глянул в сторожку, дрыхнет хозяин, и таково дрыхнет, храпит, слюна вожжой, - поел человек, - мухи по всей роже так и ползают, а он хоть бы что! "В самый, - думаю, - раз". Нацелился так на него ружьем-то, а руки-то у меня ходенем. Чисто курей крал! И ружье-то прыгает и прыгает. "Не ладно, думаю, - еще мимо дашь, только разбудишь. Ка-ак встанет он да пойдет нас же волтузить". Сильный был человек, что мы, такие-то, супротив него сделаем. Яблонька так росла, прислонился я к яблоньке. "Дай, отдышусь", - думаю. А дядя Анисим и вовсе наземь присел, стоять не может. Отдышался, наставился, прямо в голову, приложился этак... пу-у-у!
И голый Милованов принял такую позу, был так жалок, так смешон в эту минуту, что все не смогли, расхохотались. Да и он сам расхохотался над собой.
- Пу-у-у! Хозяин-то и завизжал по-свинячьи и начал крутиться, чисто вьюн. А сам-то визжит. Принялся в вдругоряд ружьишко заряжать. Дядя Анисим меня за руку, а сам белый: "Не стреляй, - говорит, - ради Господа Бога! Убежим! Страшно!" - говорит. "Нет уж, мол, начато! Уж без того не уйду, не убивши". Зарядил опять, нацелился, раз! Тут уж хозяин и крутиться перестал. Только лежит, ойкает. Поойкал, поойкал, и кончился. Мы с дядей Анисимом драла, да в поле, да рожью целиком, вбежали на межу, - да ружье, - так поправей межи-то деревцо было, - под деревцом ямочку выкопали, ружье-то и зарыли.
- Полевей межи дерево было! - заметил дядя Анисим.
- Ан, правее!
- Левей, говорю!
- Ан, поправее. Вот межа, в от деревцо, как стол, а вот отступя шага два...
И они вступили между собой в бесконечный спор: где было деревцо, правей межи или левей. Оба знали и помнили каждый кустик. Немного знали эти люди, но уж то, что знали, знали досконально.
Букашка так знает лист, на котором она выросла и живет.
Узенький кругозор у людей, - вершка полтора в диаметре, - но зато уж в этом кружке они всякую пылинку наизусть знают и мало-помалу за целую гору считают.
- Спрятали ружье в ямочке, - продолжал Милованов, когда кончился его победой спор о деревце, - домой приходим. "Принимай, мол, нас, честная вдова!" Услыхала это хозяйка, ровно холстина сделалась, на скамейку так и села. "Разве вы, - говорит, - его уже порешили!" - "Так, мол, точно. Прикончили". Залилась слезами. "Ах, - говорит, - зачем вы это сделали?" - "Ну, уж, мол, теперь не воротишь. Теперь ты нас уважать должна!" - "Пожалуйте, - говорит, - к столу. Садитесь". Полштофчик нам поставила, из печки, что от обеда осталось, достала. Сидим, водку пьем.
- Да ты, что ж, до водки, что ль, охочь?
- Зачем? Нет! А только так уж положено. С окончанием дела. Плачет хозяйка-то. Известно, жаль, муж. "Ты бы, мол, присела". Поднесли ей водочки. "Ты, мол, тоже с нами выпей. Что ж мы одни-то? Для кумпаньи". Дала она нам денег - три рубля бумажками, а на три четвертака медью. И пошли мы спать, потому намаялись. А утром-то нас и взяли.
- Как же случилось?
- Из мужиков кто-то шел, в сторожку заглянул, а там мертвое тело. Он содом и поднял. Кто мертвое тело? Мельник. Сейчас на нас подозрение и сделали.
- Ну, и что ж вы?
- Дядя Анисим не в сознаньи. А я вижу, стало быть, что все стало известно, и рассказал. Так и так, мол. Чего ж тут молчать? Известно, другого кого бы взяли, молчал бы. А раз меня самого взяли, стало быть, все одно - молчи не молчи - подозрение. Хозяйка-то больно вертелась. К барину. Да нешто барину такая паскуда нужна, из острога-то. Барин себе другую возьмет, баб много. Становому сулила три года в куфарках служить без жалованья. Да нет, брат, ничего не поделаешь. Уж больно, как я все рассказал, стало известно. Так стало известно, каждое слово всяк знает. Нас и осудили. Как же! Всех вместе судили. И хозяйку на одну скамейку посадили. А барин-то за нее другой заступался. Тоже, видать, она ему обещалась в куфарки пойтить без жалованья. Все на меня пальцем тыкал: "Врет, - говорит, - все! Не верьте ему, господа председатели!" А я-то встаю да перекрестился: "Как, - говорю, - перед Истинным!" Мне и поверили. Да нас всех и в каторгу.
Через несколько дней захожу в тюрьму, в группе арестантов хохот. Что такое?
Милованов рассказывает, как он за три рубля семьдесят пять копеек своего "не хозяина, а ангела" убивал. И рассказывает всякий раз во всех мельчайших подробностях, посмеиваясь там, где речь идет о вещах, по его мнению, забавных, как хозяин "визжал по-свинячьему", рассказывает просто, спокойно, словно все это так и следует.
- Как же это так, Милованов? - начал я, в виде опыта, как-то стыдить его.
Милованов посмотрел на меня с удивлением:
- Да ведь мы, ваше высокоблагородие, люди слабосильные! Ежели б я сильный человек был, известно б ушел. Потому я везде могу. А что ж слабосильный сделать может. Его куда ткнут, он туда и идет. Слабосильный, одно слово!
- Нашли тоже с кем, ваше высокоблагородие, разговаривать! Нешто он что понимает? У него и ума-то и всего иного прочаго в умаленьи! Нешто ему обмозговать, на какое дело идет! - презрительно заметил про Милованова один каторжанин, сам убивший одну семью в шесть душ, другую - в пять. Так, не человечишко даже, а четверть человека какая-то!
Самоубийца
- Опять бумаг не переписал, мерзавец? Опять? - кричал в канцелярии Рыковской тюрьмы смотритель К. на писаря-бродягу Иванова.
Он любил показать при мне свою строгость и умение "держать арестантов".
- На кобыле не лежал, гад? Разложу! Ты, брат, меня знаешь! Не знаешь, у других спроси. Ты у меня на кобыле жизнь проклянешь, мерзавец! Взял негодяя в канцелярию, а он... В кандальную запру, на парашу, в грязи сгниешь, гадина!
Бродяга Иванов, безусый, безбородый юноша, сидел с бледным лицом и синими дрожащими губами и писал.
- Нельзя иначе с этими мерзавцами! - пояснил мне К., когда мы шли из канцелярии. - Я их держать умею! Они меня знают, мои правила. Не скажу слова, а уж сказал, верно, будет сделано.
Вечером я пил в семье К. чай, как вдруг прибежал надзиратель: