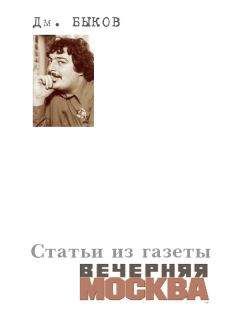Анатоль Франс - 8. Литературно-критические статьи, публицистика, речи, письма
МЫСЛИ ПЕРЕД ВОЗВРАЩЕНИЕМ В ГОРОД. ЗЕМЛЯ И ЯЗЫК{2}[47]
Первые порывы холодного ветра гонят нас в города. Дни становятся короче и сумрачней. В то время как я пишу, сидя у камелька, в уединенном доме, ярко-красная луна всходит в конце аллеи, усеянной опавшими листьями. Все замолкло. Бескрайняя грусть заволокла горизонт: прощай, солнце; прощайте, лучезарные звонкие дни. Прощайте, поля, дышащие светлым покоем. Прощай, земля, прекрасная цветущая земля, прощай, наша родительница, от которой все мы произошли и к которой вновь вернемся в один прекрасный день.
Завтра я уезжаю, чемоданы уже уложены, узлы завязаны, и в осиротевшем доме под рукой у меня осталась одна-единственная, тоненькая книжечка. Она осталась на камине случайно. Случай — мой мажордом. Ему я поручаю заботу о моем имуществе и управление моим достоянием. Он нередко обкрадывает меня, но он, мошенник, не глуп: он меня потешает, и за это я прощаю его. Вдобавок, как дурно он ни поступает, сам я поступил бы еще того хуже. Ему я обязан некоторыми удачами. Он слуга на редкость изобретательный и наделен чарующей фантазией. Он никогда не подает мне то, чего я требую. Я на это не сержусь, принимая во внимание, что люди обычно высказывают неосторожные пожелания и бывают особенно несчастливы именно тогда, когда их мечты осуществляются. «Ты стал жалким только потому, что всегда делал, что хотел», — говорит Креонт Эдипу. Мой мажордом Случай никогда не исполняет того, что я хочу. Я подозреваю, что он лучше меня разбирается в тайнах судьбы. Я доверяюсь ему из презрения к людской мудрости.
По крайней мере на этот раз он хорошо послужил мне, оставив у меня под рукой желтый томик, который я уже прочел этим летом с каким-то особым умственным волнением; он вполне созвучен моим сегодняшним раздумьям, ибо в нем говорится о речи, а я размышляю о земле.
Вы спрашиваете, почему я соединяю эти два понятия? Сейчас скажу. Между землей-кормилицей и человеческой речью есть сокровенная связь. Речь человека родилась в борозде: она сельского происхождения; пусть города наделили ее некоторым изяществом, вся мощь ее — от полей, где она родилась. Язык, которым все мы говорим, — язык грубый, крестьянский; сейчас эта мысль меня особенно изумляет и трогает. Да, наша речь родилась в нивах, как песнь жаворонка.
Помешивая уголья в камине, я предаюсь осенним раздумьям и набрасываю на бумагу свои блеклые мысли. Книга Арсена Дармстетера, помогающая мне в этом, — научный труд; его следовало бы изучить основательнее и воспользоваться им для более полезной работы. Господин Дармстетер — лингвист, обладающий умом одновременно и аналитическим и обобщающим, постепенно доходящим до высот философии речи. Его мощный и строго логический ум создает определенный метод и воздвигает законченную систему.
Как некий Дарвин в области грамматики и лексики, он применяет к словам эволюционные теории и приходит к выводу, что речь — это звуковая материя, которую человеческое мышление незаметно и бесконечно видоизменяет под неосознанным воздействием борьбы за существование и естественного отбора. Такой методический труд следовало бы и проанализировать методически. Но я предоставляю это другим, более ученым людям, например Мишелю Бреалю. Я не стану погружаться в глубокие и безупречно построенные мысли господина Дармстетера. Я только в свое удовольствие поброжу в их окрестностях. Я перелистаю томик, время от времени обращая взор к пашне; ее уже полуприкрыла ночь, а завтра — еще до рассвета — я расстанусь с ней.
Да, человеческая речь происходит от земли: она еще хранит ее привкус. Как это справедливо, например, в отношении латыни! Под величием этого царственного языка еще чувствуется грубая мысль латинских пастухов. Подобно тому как в Риме круглые мраморные храмы увековечивают память о древних деревянных и соломенных хижинах и напоминают об их форме, так и язык Тита Ливия хранит в себе сельские образы, запечатленные в нем с могучим простодушием первыми выкормышами Волчицы[48]. Властители мира пользовались словами, завещанными им предками-землепашцами, которые называли фланги своих армий бычьими или бараньими рогами (cornu); части легионов — оградами вокруг хутора (cohors), а подразделения когорт — снопами пшеницы (manipulus).
А вот нечто, что скажет нам о римлянах больше, чем все разглагольствования историков. Эти неутомимые люди, благодаря труду достигшие могущества, употребляли глагол «caliere» в значении «быть искусным». А каково первоначальное значение слова «caliere»? Оно значит: «иметь мозолистые руки». Наконец только в истинно крестьянском языке одно и то же слово может обозначать «плодородие луга» и «радость человека» (laetus); только в крестьянском языке возможно сравнение безрассудного человека с землепашцем, отклоняющимся от борозды (lira — борозда; delirare — бредить)!
Я заимствую эти примеры из книги господина Дармстетера «Жизнь слов». Французский язык точно так же возник и развился из земледельческого труда. Он полон метафор, взятых из сельской жизни; он весь цветет полевыми и лесными цветами. Именно поэтому так благоухают басни Лафонтена.
Всякий деревенский житель тем самым охотник или браконьер. Нельзя жить среди полей и не охотиться за дичью или зверем. Мой любезный собрат господин де Шервиль, автор «Сельской жизни», несомненно подтвердит это. А ведь люди меняются меньше, чем принято считать: во все времена во Франции было множество охотников и еще больше браконьеров. Поэтому в нашем языке особенно много метафор, заимствованных у охотников.
Господин Дармстетер приводит любопытные примеры. Так, когда мы говорим «aller sur les brisées de quelqu'un»[49], мы, сами того не подозревая, пользуемся образом, взятым из псовой охоты. «Brisées» — это ветки, сломанные охотником, чтобы отметить места, по которым прошел зверь.
Как мало людей, употребляющих слово «acharner»[50], знает, что основное его значение — пускать сокола на дичь! Из охотничьего языка современная речь заимствовала также выражения и слова «être à l'affût»[51], «amorce»[52] — то, что кусает зверь, «appât»[53] — еда, которую дают зверю, чтобы его приманить; «rendre gorge»[54] говорилось первоначально о соколе, а потом уже, в переносном смысле, стало применяться ко взяточникам; от «gorge chaude» — обрезки дичи, отдаваемые соколу, — возникло выражение «s'en faire des gorges chaudes» — потешаться; «hagard, faucon hagard» — то есть живущий на плетне, не прирученный сокол, отсюда — «air hagard» — дикий вид; «niais»[55] первоначально означало «птенец, еще не покинувший гнезда» и т. д.
«Слова хранят, — говорит Арсен Дармстетер, — тот первоначальный отпечаток, который придало им народное мышление. Поколения сменяются поколениями, и каждое из них получает от предыдущих устную традицию выражений, мыслей и образом, которые они, в свою очередь, передают следующим поколениям». Поэтому, при известных знаниях, можно в словаре французского языка прочитать всю историю Франции. Мне припоминаются слова, когда-то сказанные Ренаном за обедом. Разговор шел о Меровингах. «Образ жизни какого-нибудь Хлотаря или Хильперика, — сказал господин Ренан, — мало чем отличался от образа жизни, какой в наши дни ведет любой крупный фермер долины Бос или Бри». А этимология слов «cour»[56], «ville»[57], «connétable»[58] и «maréchal»[59] вполне подтверждает слова господина Ренана, свидетельствуя об особенностях быта наших косматых королей. Действительно, меровингский двор, «cortem», был не чем иным, как «cohortem» или птичьим двором римлян. Коннетабли были начальниками конюшен, маршалы — погонщиками вьючных животных. А король жил в своей «villa», то есть на хуторе.
Все бедствия средневековья, говорит господин Дармстетер, отражены в словах «chétif»[60], то есть «саptivum» — пленник («chétif» и средние века значило также «пленный»), слабый, неспособный сопротивляться, «serf» — раб или «boucher»[61] — продающий мясо козла (bouc).
Упадок феодализма отозвался в слове «vasselet» или «vaslet» — молодой вассал, которое в деградации своей дошло до современного «valet»[62]; а возвышение буржуазии сказалось на скромном слове «minister», то есть слуга, которое приобрело значение «министра».
Все деяния нации, все установления, постепенно создававшиеся ходом истории, оставили свой отпечаток в языке. В современной речи находишь следы, оставленные в ней церковью и феодализмом, крестовыми походами, королевской властью, обычным правом и правом римским, схоластикой, Возрождением, Реформацией, гуманизмом, веком философии, революцией и демократией. Можно без преувеличения сказать, что филология, недавно превратившаяся в позитивную науку, стала неожиданной помощницей истории.