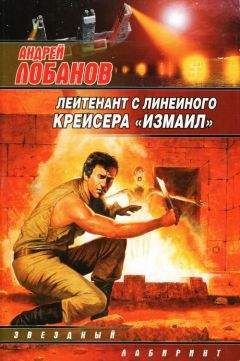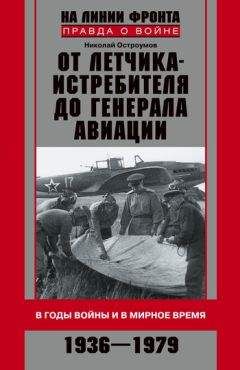Томас Манн - Королевское высочество
Любит ли она кого-нибудь? Хотя бы его, Клауса — Генриха? Ведь он же похож на нее! Ну да, конечно, любит, когда не занята ничем другим, любит и тогда, когда холодно напоминает ему о руке. Но она как будто приберегает нежные слова и ласки для тех случаев, когда есть кому умиляться на такое назидательное зрелище. Клаус-Генрих и Дитлинда не часто бывают с матерью, ведь они не обедают за одним столом с родителями, как с некоторых пор обедает Альбрехт, престолонаследник; они кушают отдельно со своей мадам; а когда их зовут в мамины апартаменты — это бывает не чаще чем раз в неделю, — дело обходится без всяких нежностей. Мама спокойно задает вопросы, они отвечают, как полагается воспитанным детям, и важно только одно: чинно сидеть в кресле и не расплескать чашку с молоком. Зато во время концертов, которые бывают через четверг в Мраморном зале и называются «четвергами великой герцогини», Клаусу-Генриху и Дитлинде, разодетым по этому случаю, разрешается прослушать один номер программы и провести антракт в зале вместе с гостями, сидящими за красными бархатными на золоченых ножках столиками, в то время как солист его высочества, господин Шрам из придворной оперы, поет под аккомпанемент рояля так громко, что надуваются жилы на его лысом темени — Вот тут мама демонстрирует свою нежную любовь к детям, демонстрирует им и всем прочим так искренне и выразительно, что усомниться в ее любви невозможно. Она подзывает их к своему столику, сияя от счастья, ставит по обе стороны от себя, прижимает их головки к груди или плечу, ласковым, умиленным взглядом смотрит им в глаза и целует в лоб и в губы. Дамы меж тем склоняют на плечо голову, растроганно улыбаются и быстро-быстро моргаю, а господа медленно кивают головой и кусают усы, дабы, как то полагается мужчинам, побороть обуревающие их чувства. Да, картина получалась поистине умилительная, и дети чувствовали, что и они играют здесь не малую роль и что самые сладостные романсы господина Шрама не могут произвести такого сильного впечатления, и с гордостью прижимались к маме. Для Клауса-Генриха, во всяком случае, было ясно: нам, по нашему положению, не пристало просто чувствовать и довольствоваться своим чувством. Нет, нам подобает демонстрировать нашу нежную любовь гостям, присутствующим в зале, — пусть смотрят на нас и умиляются сердцем. Иногда и народу на улицах и гуляющим в парке доводится видеть, как мама нас любит. Альбрехт сопровождает на утреннюю прогулку, — в экипаже или верхом, несмотря на то, что он очень плохо сидит в седле, — великого герцога, зато Клауса-Генриха и Дитлинду, по очереди, иногда берет с собой мама, когда весною и осенью выезжает под вечер на прогулку в сопровождении баронессы фон Шуленбург-Трессен. Клаус-Генрих всегда бывал возбужден и взволнован перед этими прогулками, которые не только не доставляли ему удовольствия, а, наоборот, утомляли и требовали напряжения сил. Потому что, когда коляска выезжала из ворот со львами на Альбрехтсплац, мимо салютующих гренадеров, ее встречала толпа: мужчины, женщины и дети, они кричали «ура!» и жадно смотрели, и надо было все время следить за собой, делать приятное лицо, улыбаться, прятать левую руку и приподымать шляпу, вызывая восторг в народе. И так все время — и пока едут по городу и уже за городом. Другие экипажи должны держаться на известном расстоянии от нас, за этим смотрит полиция. Но пешеходы стоят по обе стороны дороги, дамы низко приседают, господа держат в руке шляпу и смотрят снизу вверх с благоговением и острым любопытством — и Клаус-Генрих был убежден: народ для того и существует, чтобы стоять там и смотреть на него, а он существует для того, чтобы показываться народу и чтобы на него смотрели, а это куда труднее. Он держит левую руку в кармане пальто и улыбается, как велела мама, а щеки у него горят. На следующий день «Курьер» сообщает, что у нашего маленького герцога на щечках играет румянец, а сам он пышет здоровьем.
Клаусу-Генриху было тринадцать лет, когда он стоял у одинокого перламутрового столика в центре холодного Серебряного зала и старался понять, что же это такое то «особое», что является его уделом. И когда ему приоткрылся внутренний смысл явлений, когда он смутно понял, зачем это пустое, обветшалое великолепие покоев, бесполезных и безрадостных в своей гордыне, это самоотверженное умение владеть собой, высокое и напряженное служение, которое, казалось, олицетворяла строгая симметрия белых свечей, откуда выражение мимолетной растерянности на лице отца, если кто-нибудь сам, первый обращался к нему, чем объясняются улыбка матери, предоставлявшей любоваться своей холодной, заботливо выхоленной красотой, благоговейные и назойливо любопытные взгляды людей на улице, — когда он это понял, им овладело предчувствие, неоформленное в слова, сознание того, для чего он существует. И ему стало страшно своего назначения, его охватил трепет, он ужаснулся своего «высокого призвания» и, закрыв лицо обеими руками, обеими, — и короткой, сморщенной левой тоже, — склонился на одинокий столик и горько заплакал. Он плакал от жалости к себе и к своему сердцу до тех пор, пока не пришла мадам, и не подняла глаза к небу, и не всплеснула руками, и, допрашивая, не увела его прочь… Он сказал, что испугался, и это была правда, Клаус-Генрих не знал, не понимал, не подозревал, какая ему предстоит многотрудная и суровая жизнь; он был веселым, шаловливым мальчиком и часто давал мадам повод ужасаться. Но уже очень рано начали накапливаться у него впечатления, которые не позволяли ему закрывать глаза на подлинное положение вещей. В северном предместье неподалеку от курортного парка возникла новая улица; ему сообщили, что магистрат постановил назвать ее улицей Клауса-Генриха, Во время одной из прогулок мать заехала вместе с ним в художественный магазин; ей надо было что-то купить. Лакей дожидался их у дверцы коляски. Собралась публика, осчастливленный хозяин магазина не знал, чем услужить, — нового в этом ничего не было. Но Клаус-Генрих впервые заметил, что в витрине выставлена его фотография. Она висела рядом с портретами художников и великих людей, людей со светлым челом, глядящих на мир из своего славного одиночества.
В общем, Клаусом-Генрихом были довольны. Он все лучше и лучше усваивал умение держать себя и спокойную осанку, ибо понимал, к чему обязывает его высокое призвание. Но необычно было то, что наряду с этим росла в нем потребность уклониться в сторону, жажда «познать», для удовлетворения которой попечитель Дреге был неподходящим человеком, — именно эта потребность и побудила его тогда поговорить с лакеями. Больше он этого не делал, разговоры не привели ни к чему. Лакеи улыбались: «Ах ты, святая простота!» — их улыбки только укрепляли его в смутном сознании, что его мир — мир торжественной симметрии свечей — неведомо почему; противопоставлен прочему миру; укрепляли, но не помогали. Во время прогулок в экипаже и пешком в городском саду с Дитлиндой и с их мадам, в сопровождении лакея, он вглядывался во все вокруг, Он чувствовал: если все объединились против него, чтобы смотреть, а он один обособлен, выделен, чтобы смотрели на него, значит он не причастен к их жизни и делам. Он догадывался, что они вряд ли всегда такие, какими видит их он, когда они стоят и с благоговением смотрят на него; что, должно быть, его «святая простота»-причина их благоговейных взоров, что мысли их облагораживаются, а сами они поднимаются над повседневностью, совсем как те дети, которые слушают про сказочных принцев. Но он не знал, какие они обычно, когда ничто не поднимает их над повседневностью, не облагораживает, — . его «высокое назначение» скрывало от него обыденную сторону жизни, а раз это так, его желание ближе соприкоснуться с тем, что именно из-за его высокого назначения от него скрыто, — опасное и неподобающее желание. И все-таки он этого желал, желал ревностно, все из той же потребности уклониться в сторону, потребности, которая временами, когда представлялся случай, побуждала его отваживаться вместе с сестрой Дитлиндой на рекогносцировки в необитаемые области Старого замка.
Они называли это «отправляться на разведки», и соблазн «отправиться на разведки» был велик — ведь освоиться с планом и структурой Старого замка было совсем нелегко, и всякий раз, как им удавалось проникнуть в неведомые дали, они открывали комнаты, кладовые и пустые залы, которых никогда раньше не видели, а иногда и необычные кружные пути в уже знакомые комнаты. И вот однажды во время такой разведки произошла неожиданная встреча, они наткнулись на приключение, само по себе как будто и не особо важное, но для Клауса — Генриха оказавшееся и волнующим и поучительным.
Их мадам отлучилась в церковь к вечерней службе, и случай представился. Детей позвали к великой герцогине, где в присутствии двух статс-дам они выпили свою порцию молока, налитого в чайные чашки; а затем их отправили обратно, наказав взяться за руки и идти играть к себе в детскую, находившуюся неподалеку. Ему, Клаусу-Генриху, провожатые не нужны, он уже большой и сам доведет Дитлинду. Да, это правда, он уже большой; и, выйдя в коридор, он сказал: