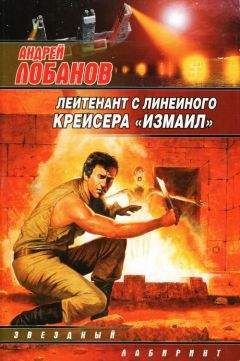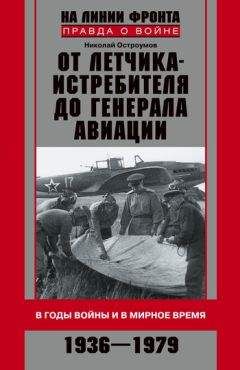Томас Манн - Королевское высочество
Как-то он зашел в одну из зал парадных апарта-i ментов — в Серебряную залу, где, как он знал, великий герцог, его отец, дает торжественные аудиенции большому кругу лиц. Он случайно очутился один в пустом покое и теперь разглядывал его.
Стояла зима, и было холодно; его башмачки отражались в блестящем, как стекло, выложенном большими светло-желтыми квадратами паркетном полу, который расстилался перед ним словно ледяная гладь. Потолок с посеребренными лепными украшениями был очень высокий, и серебряная, густо усаженная длинными белыми свечами люстра, парившая там наверху, в центре этого необъятного пространства, висела на длинном-предлинном металлическом стержне. Под самым потолком шел окаймленный серебром бордюр с поблекшей живописью. Стены были обтянуты белым шелком, местами порванным и в желтоватых пятнах обрамленным серебряным багетом. Ту часть зала, где помещался камин, отделяло от всей комнаты сооружение вроде монументального балдахина, покоящегося на массивных серебряных колоннах и украшенного спереди подобранной в двух местах серебряной гирляндой, а с верхушки балдахина глядел в зал задрапированный искусственным горностаем портрет давно умершей прабабки в напудренном парике. Широкие посеребренные кресла, обитые белым посекшимся шелком, стояли вокруг нетопленного камина. Вдоль боковых стен уходили ввысь друг против друга вставленные в серебряные рамы огромные зеркала со стершейся кое-где амальгамой, а по бокам на широких белых мраморных консолях стояли подсвечники — два справа и два слева, те, что пониже, спереди, а те, что повыше, сзади; в них были воткнуты свечи, так же как и в бра на стенах, так же как и в четыре серебряных канделябра по углам зала. С высоких окон на правой стене, которые выходили на Альбрехтсплац, пышными и тяжелыми складками падали на паркет шелковые белые драпри в желтых пятнах, подобранные серебряными шнурами и подбитые кружевом; а за окном на карнизах мягкими подушками лежал снег. В центре зала, под люстрой, стоял стол средних размеров, серебряная ножка которого изображала сучковатый ствол, а восьмиугольная доска была из молочно-белого перламутра, — стоял без всякой надобности, не окруженный стульями, предназначенный самое большее для того, чтобы во время непродолжительных торжественных аудиенций можно было на него опереться в ту минуту, когда лакеи распахнут обе створки двери и впустят явившихся в парадной одежде господ.
Клаус-Генрих смотрел в зал и ясно видел, что нет здесь ничего от той трезвой деловитости, которую, несмотря на все свои поклоны, требовал от ученика попечитель Дреге. Здесь царила праздничная торжественность воскресного дня, совсем как в церкви, где требования учителя были бы также неуместны. Строгая отвлеченная пышность, бесцельная и неудобная, господствовала здесь в обстановке, вся мебель была расставлена в угоду формальной, самодовлеющей симметрии… Да, конечно, это высокое и напряженное служение, совсем не легкое и не приятное, обязывающее к известной выправке, к умению владеть собой и к самоотречению, но во имя чего? Выразить это словами было невозможно. И в Серебряном зале со множеством свечей было холодно, как в зале снежной королевы, где замерзали сердца детей.
Клаус-Генрих прошел по зеркальной глади к столу в центре комнаты. Он слегка оперся правой рукой о перламутровую крышку, а левой подбоченился, не выставляя руки вперед, так, чтобы она была почти за спиной и чтобы спереди ее не было видно, потому что левая рука у него некрасивая: коричневая и сморщенная и короче правой. Он перенес всю тяжесть тела на одну ногу, а другую выставил немного вперед и устремил взор на украшенную серебром дверь. И место и поза не располагали к сновидениям, и все же он видел сны.
Он видел отца и всматривался в него, как перед тем в зал, чтобы понять. Он видел усталый высокомерный взгляд его выцветших глаз, надменные угрюмые морщины, которые шли от ноздрей к подбородку и в минуты раздражения или скуки становились глубже и длиннее… Заговорить с ним, так просто взять и заговорить, не дожидаясь, пока он задаст вопрос, — нельзя, даже им, его детям, это запрещено, это опасно. Он, правда, ответит, но холодно и отчужденно, и на лице у него появится беспомощное выражение, мгновенное замешательство, глубоко понятное Клаусу-Генриху.
Папа сам начинает и кончает разговор. Так это заведено. Он милостиво беседует с приглашенными перед началом придворного бала и по окончании парадного обеда, которым открывается зимний сезон* Вот он идет вместе с мамой по анфиладе комнат в зал, где собрались придворные чины, идет через Мраморный зал и парадные апартаменты, через картинную галерею, Рыцарский зал, зал Двенадцати месяцев, аудиенцзал и бальный зал, идет не только в установленном направлении, но и по установленному маршруту, и путь для него заранее очищает услужливый господин фон Бюль, идет и обращается с милостивыми словами к дамам и господам. Тот, с кем он заговорит, отступает с низким поклоном, — так, чтобы между ним и папой остался порядочный кусок блестящего паркета, — и, осчастливленный, почтительно отвечает. Затем папа кланяется, соблюдая все ту же дистанцию, предписанную соображениями безопасности, — она ограничивает движения прочих и выгодно оттеняет папину осанку, — кланяется слегка и с улыбкой следует дальше, кланяется слегка, с улыбкой… Ну конечно же, он, Клаус-Генрих, понимает замешательство, на мгновение изменявшее выражение папиного лица, если кто-нибудь, забыв об этикете, заговаривал с ним первый, понимает, и ему тоже в таких случаях становится страшно! Всякое грубое прикосновение больно задевает, ставит под угрозу то неуловимое, чем продиктовано наше поведение, и мы теряемся. И все-таки как раз это нечто неуловимое придает усталое выражение нашим глазам и прокладывает такие глубокие морщины скуки на нашем лице…
Клаус-Генрих стоял и смотрел. Он видел свою мать, видел ее прославленную, всеми признанную красоту. Он видел, как она стоит в robe de ceremonie[5] перед большим освещенным свечами зеркалом, одеваясь к придворному балу, — ему иногда разрешается присутствовать при том, как придворный куафер и камеристки заканчивают ее туалет. Господин фон Кнобельсдорф тоже присутствует, когда маму украшают коронными бриллиантами, он следит и записывает, какие драгоценности взяты. Вокруг его глаз играют морщинки и он смешит маму забавными словечками, от чего у нее на нежных щеках обозначаются очаровательные ямочки. Но смех ее деланный, снисходительный смех, и, смеясь, мама смотрится в зеркало, словно практикуясь.
Говорят, будто у нее в жилах течет и славянская кровь, вот потому-то ее синие глаза и мерцают таким ласковым блеском, а ее ароматные волосы черны, как ночь. Клаус-Генрих слышал, как говорили, что он на нее похож; во всяком случае у него тоже синие, как сталь, глаза и темные волосы, а Альбрехт и Дитлинда блондины, такие же, каким прежде был папа, до того как поседел. Но Клаус-Генрих совсем не красив, потому что у него широкие скулы, а главное — это левая рука; мама требует, чтобы он ее ловко прятал: держал в боковом кармане курточки, за спиной или спереди за пазухой; требует, чтобы он ее прятал как раз тогда, когда он в порыве нежности хочет обнять маму обеими руками. Взгляд ее холоден, когда она требует, чтобы он не забывал о руке.
Он видел мать такой, как на портрете в Мраморном зале: в переливчатой шелковой робе с кружевом и в длинных перчатках — между перчаткой и пышным рукавом светится только узенькая полосочка ее жемчужно-белой руки — в темных, как ночь, волосах диадема, вот она — гордая и великолепная, на удивительно строгих устах играет холодная улыбка уверенной в своем совершенстве красавицы, а за ней павлин с голубой, отливающей металлическим блеском шеей распустил свой спесивый хвост. Лицо у нее такое нежное, но красота делает его холодным, и видно, что и сердце у нее холодное, и заботится она только о своей красоте. Если вечером предстоит бал или раут, она спит днем и, чтобы не отяжелять желудка, кушает только гоголь-моголь. А вечером, ослепительно прекрасная, проходит под руку с папой анфиладой зал по предписанному этикетом пути, — и седые сановники краснеют, когда она удостаивает их словом; а потом «Курьер» пишет, что ее королевское высочество была царицей бала не только по своему высокому рангу. Да, где бы она ни появлялась, при дворе, на улице, на каждодневной прогулке в городском саду, пешком или в экипаже, — все осчастливлены ее появлением, у всех на щеках вспыхивает румянец. Ее встречают цветами, приветственными кликами, к ней устремляются все сердца. И ясно, что славя ее высочество, они и сами возносятся на высоту и верят в это мгновение во все высокое, Но Клаус-Генрих отлично знает, что мама проводит долгие часы, старательно изучая свою красоту, что ее улыбки и поклоны продуманы и затвержены и что ее собственное сердце никогда и ни для кого не забьется сильнее.