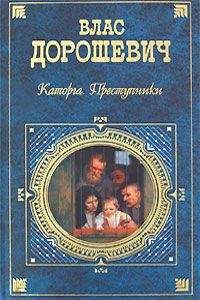Сахалин - Дорошевич Влас Михайлович
Смеется он или рассказывает что-нибудь для него тяжелое, оживлено у него лицо или нет, - у него играет только одно лицо. Серые, светлые глаза остаются одними и теми же, холодными, спокойными, стальными. И вы никак не отделаетесь от мысли, что у Ландсберга такими же холодными и спокойными глаза оставались всегда.
- Тяжелые глаза! - замечали и служащие всякий раз, как разговор заходил о Ландсберге.
- Вы на глаза-то посмотрите! - со злобой говорили не любящие Ландсберга каторжане и поселенцы. - Смотрит на тебя, и словно ты для него не человек.
Пароход привез Ландсбергу для лавочки конфеты и печенье, и Ландсберг, обмениваясь любезными шуточками с господами служащими, очень ловко на пристани укладывал этот воздушный товар, словно подарки вез на именины. Такое странное впечатление производил этот торговец с красивыми, элегантными движениями.
Попрощавшись со всеми, он сел в собственный экипаж и приказал кучеру:
- Пошел!
- Куда прикажете, барин? - спросил кучер из поселенцев.
- Домой!
Ландсберг еще раз с любезнейшей улыбкой раскланялся со всеми, крикнул начальнику округа:
- Так я вас жду сегодня вечерком. Новые ноты с пароходом пришли. Жена нам на пианино сыграет.
И экипаж поскакал.
- А кучер-то у него, как и он, за убийство с целью грабежа прислан! - сказал мне начальник округа. - У нас, батенька, тут много удивительных вещей увидите!
Ландсберг сохранил свой великолепный французский язык и давится, как все сахалинцы, на слове "каторга".
- Когда я был еще... рабочим! - говорит он, слегка краснеет и опускает глаза.
Мы с ним никогда не называли Сахалина по имени, а говорили:
- Этот остров.
Ландсберг через 25 лет тюрьмы и каторги пронес невредимыми свои изящные "гостиные" манеры, но есть нечто поселенческое в той торопливости, с которой он сдергивает с головы шляпу, если неожиданно слышит:
- Здравствуйте!
Эта особая манера снимать шляпу, приобретаемая только в каторге.
И по этой манере вы видите, что нелегко досталась Ландсбергу каторга. Бывали-таки, значит, столкновения.
Этому человеку, из окон которого "открывается вид" на пали каторжной тюрьмы, тяжело всякое воспоминание о своем "рабочем" времени.
Когда он касается этого времени, он волнуется, тяжело дышит и на лице его написана злость.
А когда он говорит о каторжанах, вы чувствуете в его тоне такое презрение, такую ненависть. Он говорит о них, словно о скоте.
С этими негодяями не так следует обращаться. Их распустили теперь. Гуманничают.
И каторга, в свою очередь, презирает и ненавидит Ландсберга и выдумывает на его счет всякие страшные и гнусные легенды.
Служащие водят с ним знакомство, он один из интереснейших, богатейших, а благодаря добрым знакомствам, влиятельнейших людей на Сахалине; - но в разговорах о Ландсберге они возмущаются:
- Пусть так! Пусть Ландсберг, действительно, единственный человек, которого Сахалин возродил к честной трудовой жизни. Но ведь нельзя же все-таки так! Такое уж спокойствие. Чувствует себя великолепно, - словно не он, а другой кто-то сделал!
Так ли это? Один раз мне показалось, что зазвучало "нечто" в словах этого "человека не помнящего прошлого".
Все стены уютной и комфортабельной гостиной Ландсберга увешаны портретами его детей, умерших от дифтерита. Об них и шла речь.
- И ведь никогда здесь, на этом острове, дифтерита не было... Вольноследующие занесли. Дети заболели и все умерли. Все. Словно наказание.
И, сказав это слово, Ландсберг остановился, лицо его стало багряным, он наклонил голову, и несколько минут длилось молчание.
Это были самые тяжелые минуты, которые мне приходилось провести в жизни.
- Что же это я забыл? Идем чай пить! - овладел собой и "весело" сказал Ландсберг, и мы пошли в столовую, где лакей из поселенцев, во фраке и перчатках, подавал нам чай.
Это был один единственный раз, когда "нечто" словно поднялось со дна души. А часто Ландсберг ставит собеседника прямо в неловкое положение. Это, - когда он говорит о "распущенности... рабочих".
- Здесь, на этом острове, Бог знает, что делается. Убийства с целью грабежа каждый день. Убийства с целью грабежа! И с такими господами еще церемонничают.
Иногда Ландсберг приводит, действительно, в недоумение.
- Не собираетесь в Россию? - спросил я Ландсберга.
- Хочется съездить, матушка-старушка у меня есть. Хочет меня перед смертью еще раз повидать. А совсем переезжать, - нет. Тут займусь еще. Должен же я с этого острова что-нибудь взять. Не даром же я здесь столько лет пробыл.
Действительно, словно человек по делам сюда приехал. А "сделал" не он, а кто-то другой.
- Вот на что следует обратить внимание! - говорил мне в другой раз Ландсберг, - и таким взволнованным я его никогда не видал. - Вот на что. На пожизненность наказания. Наказывайте человека, как хотите, но когда-нибудь конец этому должен же быть. Оттерпел человек все, что ему приходится, и покончите с этим, верните все, что он имел. Не лишайте человека на всю жизнь всех прав. Неужели взрослый, пожилой мужчина должен терпеть за то, что сделал когда-то мальчишка?
И в его тоне слышалось такое презрение к "сделавшему" когда-то "мальчишке".
Я смотрел на страшно взволнованного Ландсберга и думал:
- Вот, значит, кто этот "другой", который "сделал".
Таков этот "знаменитый" человек.
Не случись 25 лет тому назад трагического qui pro quo, - кто знает, чем был бы теперь Карл Христофорович Ландсберг.
Если человек даже на Сахалине, - и то сумел выйти в "люди".
Дедушка русской каторги
Милый, добрый, славный дедушка, спишь ты теперь в "Рачковой заимке", на каторжном кладбище поста Александровского, под безымянным крестом, спишь тихим, вечным сном. Что грезится тебе там после твоей многострадальной жизни?
Матвей Васильевич Соколов - "дедушка русской каторги".
Старше его в каторге не было никого. Он отбыл:
- Пятьдесят лет чистой каторги.
Да предстояло еще:
- Мне, брат, три века жить надобно, - улыбаясь беззубым ртом, говорил Матвей Васильевич, - у меня, брат, три вечных приговора.
Человек, трижды приговоренный к бессрочной каторге, с бессрочной "испытуемостью".
Другого такого не было во всей каторге.
По закону, такого страшного преступника должны в течение всей жизни держать в кандальной тюрьме, и если он куда идет, отправлять не иначе, как в сопровождении часового с ружьем.
А Матвею Васильевичу Соколову разрешили жить себе в столярной мастерской безо всякого надзора.
Он спал на верстаке, зиму и лето кутаясь в старый полушубок, дрожа своим старческим телом.
- Только водкой и дышу! Проснешься поутру - ни рук, ни ног нет, грудь заложит, дышать нечем. Выпьешь чайную чашечку водки, - и опять человек! Я, ваше высокоблагородие, пьяница природный!
- Матвей Васильевич потому и работать не могут, что они лак пьют! - подшучивали другие каторжане, работавшие в столярной.
- Как так, - лак?
- А это я, когда водчонки нет, - улыбался дедушка, - лак отстоится, снизу-то муть, а сверху чистый спирт. Я его водицей разбавлю и пью. Чисто водка. Так по жилкам и побежит, и побежит огонечком этаким. В руках, ногах тепло сделается. В себя прихожу.
В богадельню Матвей Васильевич ни за что не хотел.
- Какой я богадельщик! Я человек мастеровой, я в мастерской буду работать!
Работать он, по старости лет, не мог. Так только "ковырялся".
Но столяр он был тонкий, превосходный. За это его во всех тюрьмах все смотрители любили. Но за это же ему и больнее доставалось, когда он бегал. Этакий столяр сбежал, - поневоле злость возьмет.