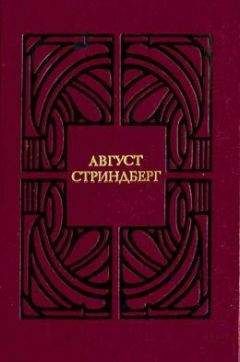Казимеж Тетмайер - Ha горных уступах
— Куда?
— К Тиховерховью. Повидаться там кой с кем надо.
Глаза его хитро блеснули из-под ресниц. Поглядела на него Кристка: два ножа за поясом и пистолет.
— Э! — подумала она. — Да это разбойник!..
И сразу какое-то удивление и какой-то восторг наполнили ей сердце.
— А когда будешь возвращаться?
— Да так через недельку, иль дней через пять. Тут будешь пасти?
— Тут!
— А как тебя зовут?
— Кристка. А тебя?
— Ян. Поцелуешь?
Кристка сильно покраснела и опустила голову на грудь, потом улыбнулась и взглянула исподлобья.
— Поцелуешь?
Она тихо шепнула: «Поцелую!»
И Ясек обнял ее и поцеловал; сразу какая-то томность разлилась у нее по жилам.
А когда он пошел от нее к лесу, под гору, стройный, высокий, в белой блестящей чухе, с длинным пером на шляпе, отливавшим на ветру, что-то захватило у нее в груди и она бросила ему во весь голос:
Жаль тебя мне, жаль тебя мне,
мил-сердечный друг.
Не забуду, не забуду
никогда тебя.
А он ей ответил уже из лесу:
Не плачь, красотка, хоть на разбой иду,
Помолися Богу, к тебе навек приду…
И долго еще слышалась из лесу его песня — уходила все дальше, все тише становилась, пока не замолкла, не растаяла в глуши лесного мрака. Так и ушел он от нее куда-то в поседевшие от инея Татры — в мороз, в пустыню, в страшное одиночество осени — веселый, распевая песни, румяный, одетый, как в праздник, — с блестящим оружием, с блестящим поясом.
Вокруг Кристки все смолкло.
* * *В знойный польский полдень шла Кристка под Волошином в сосновый лес, что рос на горах. Издали доносились медные колокольчики овец.
Шла Кристка и пела.
Ты, венок мой девичий,
с головы слетел, —
Тонешь в быстрой реченьке
и потонешь в ней…
— А я не жалею, — думает она в душе и поет.
Гей, вы добры молодцы,
Бога вы побойтесь:
Вы венок мой девичий
из реки достаньте…
— Как же, достанут! Чортовы дети! — говорит она вполголоса.
Прислушалась она минуту… вдали изредка тихо звенели колокольчики. И запела жалобно:
Яна очи синия
мне одна отрада, —
Яна ручки белые
работать не рады.
— И зачем ему? Мало ль серебра в моравских городах да в лавках?..
Эх, Боже! А блестело ж его перышко, блестело, как мы с ним первый раз на пастбище повстречались. Скоро уж три года тому будет, осенью…
Люби, добрый молодец,
как любил меня.
Hа других и издали
и глядеть не смей!
— Уж дала бы я им! Ведьмы чортовы! Тут и смерть вам!
Она топнула ногой, а потом опять запела от сладкой, безмерной тоски:
Приходи же, молодец,
иль приснись ты мне,
Не могу, сердечный другъ
позабыть тебя…
— Где же он? Господи, Господи!.. Где же он? Сегодня он должен быть у шалашей…
А из за горы, за скалами, в лесу, где овцы пасутся по утрам, послышался резкий мужской голос Яська:
Распеваю песни,
хоть, как сокол, гол,
Ведь поют же птички,
что бедней меня…
— Ясек! Ясь! — крикнула Кристка и, протянув руки, побежала под гору к скалам. А он, распевая, высокий, стройный, гордый собой, рослый вышел из соснового леса, — белый и блестящий с ног до головы.
— Ясек, Ясек мой! — шептала, запыхавшись, Кристка, бросаясь ему на шею. — Милый мой! Золотой!
— Как здоровье? — ответил Ясек. — Голоден я! Есть там что-нибудь поесть в шалаше?
* * *Августовский вечер, тихий, безлунный, звездный. Под Волошином лес колышется мерными волнами; шумят сосны в стороне, словно их заворожили.
Взглянешь вверх: звезды на соснах, на ветках, как золотистые ночные бабочки, которых прогнали на эту землю из какого-то золотистого мира. Взглянешь выше с лесных полянок: звезды на скалах, словно горы заворожены и зацвели драгоценными камнями.
Идет Кристка лесом и заламывает руки.
Льются у нее слезы из глаз, и растрепанные косы упали у нее из под платка на плечи; идет и заламывает руки.
А когда сердце стало разрываться от боли, у нее что-то прорвалось в груди, словно плотина от речного разлива, и полилась оттуда жалобная песня. Зазвенел ее голос:
Сердце мое плачет, сердце разорвется,
Яська ожидаю, жду его напрасно…
Сердце мое плачет, чуть не замирает,
Красота моя напрасно погибает…
И неслося эхо. Кристка не знала, откуда берутся у нее эти слова, которых она никогда не слыхала. Села на камне, закрыла руками лицо и заплакала. А потом, когда у нее снова грудь стала чуть не разрываться, оттуда вырвался голос:
Не буду я, не буду постель широко стлать,
Не буду я напрасно Яська ожидать.
Сено на постели слезами б оросилось,
Счастье б, что отняли у меня, приснилось.
Отнятое счастье если б мне бы приснилось,
Я не дожила бы до утра, до свету…
Эхо неслось по лесу. Встала Кристка и пошла за ним. А в груди у нее поднялись ненависть и гнев, и запела она на весь лес:
Если бы я знала, что буду так страдать,
Я просила б Бога дать тебе пропасть;
Чтобы черти ночью путь перебежали,
Чтоб вороны в поле труп твой исклевали!
Если бы я знала, что изменишь мне,
Я сама веревку свила бы тебе.
Эхо стонало в лесу, а Кристка выла, как взбесившаяся сука. Сжала кулаки, и пошла дальше в лес, в лес!.. Мокрый папоротник бил ее по ногам, хворост и мох хрустели под ее ногами.
Эхо стонало от ее песни, а старый горец Михаил Вьюн, у которого все «барабанило» в ушах, так что он спать не мог ночью, поднял голову с подушки, стал прислушиваться и удивился:
— Что это черти так горланят в лесу? Наскучило им в пекле, что ли?
Тем временем Кристка возвращалась к шалашам под Волошиным. Рыдало у нее в груди горе, росло какое-то страшное упрямство. Она не шла, а летела по лесу вверх от Яворовой долины, куда она забрела. Сосновые ветви, которые она гнула грудью и руками, кустарник, на который она налегала бедрами — расступались перед ней с шелестом и свистом; иногда вода хлябала под ногой. Кой-где рогач прыгал, испугавшись, в чащу и исчезал в ней. Кристка, закусив губы зубами, шла лесом в горы.
Уже виднелся свет из шалашей, которые тонули в темноте, в грозном мраке стволов и нависших над землей широких ветвей. Собаки почуяли Кристку и подбежали к ней с веселым лаем, виляя хвостами; она так толкнула ногой одну из них, что та завыла и бросилась к шалашу, откуда сквозь щели в стенах пробивался свет.
— Есть тут кто? — крикнула она у дверей.
— Я тут, — ответил изнутри Ясек.
Она остановилась в дверях. Из низкого черного шалаша, где горел, искрясь, костер, в нее ударило дымом и густым душным запахом смолистого огня, мокрых тряпок и молока.
— Ты один тут? — спросила она, взглядывая на лавку в тени.
— Один. Все в избы спать пошли.
Она переступила через высокий порог.
Ясек сидел на скамье и грел над огнем руки.
— Холодно тебе?
— Что-то руки замерзли, отогреть хочу.
— Отчего же ты не с Ядвигой? Она бы тебе их сразу отогрела.
Ясек язвительно улыбнулся и взглянул на наклонившуюся над ним Кристку.
— Да вот хотел и на тебя посмотреть.
— Не нужен ты мне! — крикнула Кристка. — Слышишь, не нужен ты мне здесь!
— А где? — улыбнулся Ясек. — На постели?
Кристка вспыхнула и на глазах ее заблестели слезы. Она взяла его руками за плечи.
— Ясек!
Он посмотрел на нее с равнодушной иронией и спросил:
— Ну?
Кристка бросилась перед ним на колени. Ветка, которую она задела ногой, брызнула искрами к самому потолку.
— Ясек! Не любила я тебя!?
— Что было, то сплыло, — ответил он, поправляя топориком горящие ветви; потревоженный огонь заворчал и запенился пламенем.
— Не любила я тебя? — говорила Кристка, почти стонала. — Не была я тебе верной эти три года? Ты был первый, ты и последний. Не лечила я тебя, когда Вовулк ударил тебя обухом по голове? Не спасала я тебя, когда Дунайчане окружили тебя на свадьбе? Разве пустила я жандармов, когда они пришли тебя искать у нас, после того, как ты украл деньги в Хохолове? У меня до сих пор синяки на теле, так меня ударил кто-то из них прикладом, когда ты через окно убежал в поле. Не искала я тебя, когда ты упал с козой со скалы на Медной Горе? Ты чуть не замерз тогда. А меня чуть Липтовская пуля не убила. Ясек!
— Чего?
— Что ж мне за это? Что ж мне за это? Что?