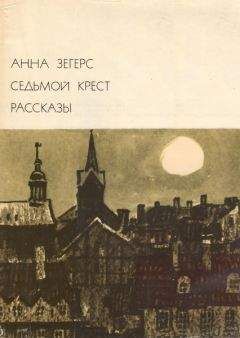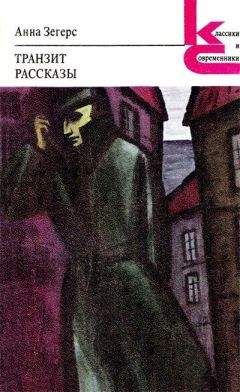Анна Зегерс - Седьмой крест
Георг сошел на Августинерштрассе и зашагал вдоль трамвайной линии к центру города. Он вдруг очнулся. Если бы не рука, он чувствовал бы себя легко. Это сделала улица, толпа и вообще город, который никого не оставляет в полном одиночестве, или так, по крайней мере, кажется. Ведь, наверно, одна из этих тысяч дверей гостеприимно открылась бы перед ним, только бы найти ее! В булочной он купил две булочки. Болтовня старух и молодых женщин вокруг о ценах на хлеб и его качестве, о детях и мужьях, которые его съедят, – неужели она все эти годы так и не прекращалась? «А что же ты воображаешь, Георг?» – сказал он себе. Да, она никогда не прекращалась и никогда не прекратится. Он поел на ходу, стряхнул крошки, приставшие к куртке Гельвига. Заглянул в ворота дома, где во дворе была колонка, и, увидев, что какие-то мальчики пьют из кружки, висящей на цепочке, тоже вошел и напился. Затем двинулся дальше и дошел до очень большой просторной площади, – несмотря на фонари и людей, она казалась мглистой и пустой. Он охотно присел бы на скамейку, но не решался. Вдруг начали звонить колокола где-то так близко и громко, что загудела стена, к которой Георг прислонился в изнеможении. Туман на площади поредел, и он решил, что, наверно, Рейн недалеко. Девочка, которую он спросил, задорно бросила ему в ответ: «А вы что, или топиться собрались?» Тут только он заметил, что это вовсе не девочка, а худая женщина, дерзкая и жадная. Она ждала, не попросит ли он проводить его вниз, к Рейну. Но эта встреча побудила его сделать как раз обратное. Мысли, все время мучившие Георга, наконец подсказали ему вывод: ни в каком случае не переходить на тот берег по одному из больших мостов, провести ночь здесь, в городе. Именно сейчас мосты охраняются вдвое строже. Надо остаться на левом берегу. Пусть это труднее, но разумнее. Подождать другого случая и перебраться где-нибудь гораздо ниже. Не идти в свой город напрямик. Сделать глубокий обход. Рассеянно посмотрел он вслед удалявшейся женщине. Или она своей торопливой, неровной походкой действительно напоминает его девушку, или ему просто каждая девушка ее напоминает? На крошечную долю секунды перед ним вспыхнуло лицо Лени – правда, в ту минуту, когда она собиралась уходить и, совершенно так же как эта, еще раз пожала плечами. Звон смолк. И внезапная тишина на площади, и то, что дрожь в стене, к которой он прислонился, прекратилась и стена точно заново окаменела, – все это еще раз дало ему почувствовать, каким громким и мощным был звон. Он отошел от стены и посмотрел вверх, на шпили. У него голова закружилась, прежде чем он отыскал самый высокий, ибо над обеими приземистыми башнями третья возносилась в вечернее осеннее небо так свободно, смело и легко, что ему стало больно. Вдруг его осенила мысль, что в таком большом соборе найдется, где посидеть. Он поискал вход. Просто дверь, не портал. Как ни удивительно, но он вошел. Он буквально свалился на ближайший конец ближайшей скамьи. Здесь, решил он, я смогу отдохнуть. Он только теперь посмотрел вокруг. Таким крошечным он не казался себе даже под необъятным сводом неба. Когда он увидел трех-четырех женщин, таких же крошечных, как он сам, он понял, как велико расстояние между ним и ближайшей колонной; он не видел стен этого храма, а только все новые пространства, и не мог надивиться этому; а самым удивительным было то, что он на миг забыл о себе.
Вошел, твердо ступая на всю ногу, кистер – ведь место было для него привычное, а то, что он делал, было его профессией – и сразу же положил конец изумлению Георга. Топая, ходил он между колоннами, возвещая громко и почти сердито: «Сейчас запирать будем. – Женщинам, которые никак не могли оторваться от своих молитв, он сказал скорее наставительно, чем утешая их: – Господь бог и завтра никуда не денется». Георг испуганно вскочил. Женщины медленно прошли мимо кистера в ближайшую дверь. Георг вернулся к той двери, в которую вошел. Однако она была уже заперта, и он заторопился, чтобы вслед за женщинами пройти через середину собора, но тут у него блеснула мысль. Он вдруг замедлил шаги и присел за большой купелью, а кистер запер и другую дверь.
Эрнст-пастух уже загнал овец. Он свистит своей собачке. Здесь, наверху, вечер еще не наступил. Над холмами и деревьями небо еще только желтоватое, как те холсты, которые женщины слишком долго хранят в сундуках. Внизу туман лежит такой густой и ровной пеленой, что кажется, будто равнина со своими большими и малыми роями огоньков поднялась и деревушка Шмидтгейм лежит не на склоне холма, а на краю равнины. Из тумана доносится вой гехстских гудков, грохот вагонов. Смена кончилась. В городах и селах женщины собирают ужинать. Уже позванивают внизу на шоссе велосипеды рабочих, едущих домой. Эрнст поднимается на холм и останавливается у придорожной канавы. Он выставил ногу. Он скрестил руки на груди. Он смотрит туда, где около трактира Траубе начинается подъем: на его губах появляется насмешливая и высокомерная улыбка, – должно быть, по адресу господа бога и сотворенного им мира. Каждый вечер ему доставляет удовольствие сознание, что люди там внизу вынуждены слезать с велосипедов и вести их в гору.
Через десять минут мимо него прошли первые рабочие – потные, серые, уставшие.
– Эй, Ганнес!
– Эй, Эрнст!
– Хейль Гитлер!
– Катись со своим хейлем!
– Эй, Пауль!
– Эй, Франц!
– Некогда, Эрнст, – отозвался Франц.
Он тащил велосипед через ухабы, на которых утром так весело подскакивал. Эрнст обернулся и посмотрел ему вслед. «Что это с парнем?» – подумал Эрнст. Наверно, опять из-за девчонки. Ему вдруг стало ясно, что он недолюбливает Франца. И на что такому девушка! Если кому нужна, так мне. Он постучал в кухонное окно Мангольдов.
Вернувшись домой, Франц сейчас же прошел в кухню.
– Добрый вечер!
– Добрый вечер, Франц, – пробурчала тетка.
Суп уже был разлит по тарелкам – картофельный суп с сардельками. По две сардельки каждому мужчине, по одной женщинам, по половинке ребятам. Мужчины – старик Марнет, старший сын Марнетов, зять, Франц. Женщины – фрау Марнет, Августа. Дети – Гэнсхен и Густавхен. Дети пили молоко, взрослые – пиво; кроме хлеба, подали колбасу, так как супа было в обрез. Фрау Марнет еще во время войны научилась почти полностью обходиться в хозяйстве своими средствами. Она доила скотину, колола свиней, искусно лавируя среди всевозможных предписаний и запретов.
Тарелки и стаканы, платья и лица, картинки на стенах и слова на устах – все говорило о том, что Марнеты ни бедны, ни богаты, что они ни городские и ни деревенские, ни богомольные, ни безбожники.
– А что Малышу тут же не дали отпуска, это правильно, пусть знает, что упрямой головой стену не прошибешь, – сказала фрау Марнет о своем младшем сыне, стоявшем в Майнце со Сто сорок четвертым полком. – Это ему на пользу.
Все сидевшие за столом, кроме Франца, согласились, что да, Малыша следует хорошенько помуштровать, и вообще слава богу, что всех этих озорников наконец к рукам прибрали.
– Сегодня же понедельник? – сказала фрау Марнет Францу, когда тот, едва проглотив тарелку супу, снова встал. Они надеялись, что Франц подсобит им втащить в дом корзины с яблоками.
Она еще продолжала ворчать, когда он уже скрылся. Конечно, особенно бранить его не приходится, он от работы не бегает и всегда готов помочь, вот только эта вечная игра в шахматы с Германом в Брейльзгейме. «Была бы у него хорошая девушка, – сказала Августа, – он бы не таскался туда».
Франц сел на свой велосипед и покатил в противоположном направлении – полевой дорогой в Брейльзгейм, который был раньше деревней, а теперь, благодаря новому поселку, слился с Гризгеймом. После своей второй женитьбы Герман жил в поселке, на что он имел право, как железнодорожный рабочий. И вообще, когда весной этого года Герман женился вторым браком на Эльзе Марнет, молоденькой кузине Марнетов, он вдруг получил право на великое множество вещей, кучу всяких привилегий, право на какие-то там ссуды и тому подобное. Его жена была из шлоссборнских, из «дальних» Марнетов, что определяло и их положение на Таунусе, и их место среди огромной, разбросанной по многим деревням семьи Марнетов. Герман говорил, обсуждая с приятелем все связанные с браком преимущества:
– Да, наша тетя Марнет из «ближних» Марнетов собирается подарить нам серебряную сухарницу, она ведь крестная мать Эльзы. Каждый год в день рождения Эльза получает от них по серебряной ложечке.
– Конечное дело, если бы целый год да по куску сала от «ближних» Марнетов, это небось пришлось бы твоей Эльзе больше по вкусу, – говорили ему друзья.
– Ну, к празднику ведь принято что-то дарить! – отвечал Герман. – Зато ей приходится навещать их и подсоблять во время жатвы, и когда большая стирка, и когда убой, ведь она член семьи.
Но сама Эльза очень рада была и сухарнице, и всем новым вещам. Круглое личико, восемнадцатилетнее, зеленые глазенки. Правильно ли он поступил, не раз спрашивал себя Герман, что взял в жены такое дитя – и только оттого, что она была милая и ласковая, а он уже столько лет жил вдовцом и последние три года был так невыносимо одинок.