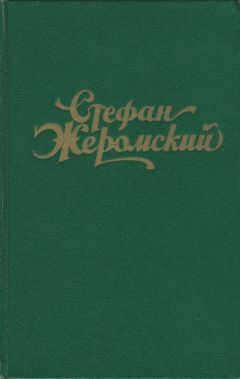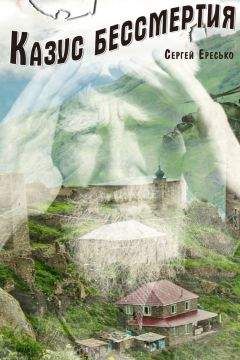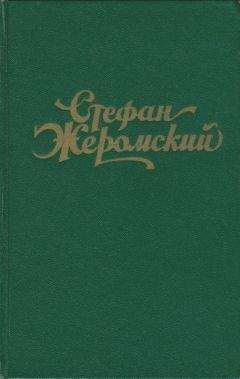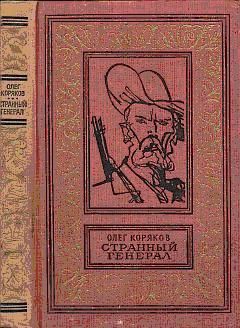Стефан Жеромский - В сетях злосчастья
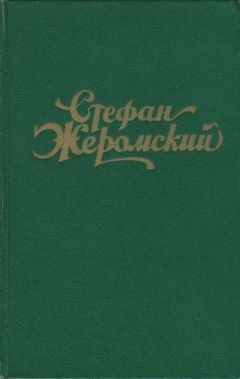
Обзор книги Стефан Жеромский - В сетях злосчастья
Генерал Розлуцкий торжественно восседал на складном стуле. Стул этот (движимая собственность землемера Кнопфа) стоял на самой середине ковра, который сняли со стены над кроватью моей матери. По другую сторону костра, на пеньке, весьма тщательно застланном пледом, зябко ежился и пожимался под длинным резиновым плащом, словно под раскинутым шатром, вышеупомянутый землемер Кнопф. Рядом с ним на развилистых сучьях принесенного лесником валежника сидел в неудобной позе помощник лесничего Гунькевич, осторожно держа в руке стаканчик рома, куда для вида были прибавлены две ложечки чаю. Гминный[1] писарь Ольшаковский и старый войт Гала с медной медалью «за усмирение польского мятежа» [2] сидели на рыжей сермяге друг подле дружки. Отец мой, человек, к лесу привычный, охотник, полулежал на земле, автор же настоящего повествования, только что удостоенный перевода из второго в третий класс, вертелся у всех под ногами.
Отставной генерал Розлуцкий, управляющий поместьями одного из петербургских сановников, наиболее щедро пожалованных за вышеупомянутое усмирение, приехал на фольварк, с давних пор арендуемый моим отцом, для того чтобы согласно указу об обмене землями прирезать из казенной дачи большой кусок леса к помещичьим владениям. Отмежевание лесного клина было почти закончено. Землемер Кнопф, кото — рыи, к крайнему огорчению всех окружающих, уже с неделю жил у нас в доме, провешил, наконец, «линию», и наемные лесорубы давно рубили в старом темном бору просеку. Управляющий, тоже уже три дня гостивший в фольварке, хотел в присутствии местных властей поскорее передать прирезанный лес моему отцу. Две партии мужиков рубили просеку, приближаясь навстречу друг другу с противоположных концов леса. Предполагалось, что работу удастся закончить до заката солнца. Меж тем уже спустилась ночь, а просека все еще не была прорублена. Генерал решил во что бы то ни стало завтра уехать. Чиновники тоже хотели покончить с этим делом. Все согласились поэтому продолжать работу ночью, хотя бы до самого утра.
Тут же на опушке леса разложили костер. Из усадьбы, расположенной верстах в двух, принесли ужин, — и вот в ожидании, пока свалят несколько десятков оставшихся еще елей, мы как могли коротали время.
Все были в недурном настроении. Простодушный добряк Гунькевич с остатком волос на висках, которые он зачесывал вверх, пытаясь прикрыть лысину, и бородкой, нафабренной дешевой фаброй, успел уже вылакать по меньшей мере девять стаканов чаю с ромом, трогательно беспокоясь всякий раз, когда я подавал ему следующий стакан, не будет ли это слишком много, «потому что это, кажется, уже третий…» Я уверял его с решительностью человека, весьма опытного по части арифметических вычислений вплоть до десятичных дробей, что «ничуть не много», и он подчинялся, смиряясь, конечно, перед светом знания, и принимал от меня новую порцию рома. Тминный писарь Ольшаковский, большой дока по части всяких житейских дел, особенно по части легких провинциальных способов наживы (за что он даже «потерпел» однажды, отсидев некоторый срок в келецкой тюрьме), несомненный гений, который мог бы с успехом занимать пост министра внутренних или иностранных дел, а может быть, без особого напряжения даже оба эти поста сразу, отъявленный взяточник, дравший с мужика последнюю шкуру, нещадно притеснявший евреев и ловко обходивший всякие законы, записной гуляка, из уважения к генералу пил мало и больше налегал на еду. Вообще же этот проныра ни в грош не ставил генерала, был весел и держался с присутствующими весьма развязно. Войт Г ала уписывал втихомолку за обе щеки все, что ему подавалиг пил не отказываясь и весело что‑то мурлыкал себе под нос. Видно было, что он с особенным удовольствием исполняет эту государственную повинность на лесной опушке и вообще одобряет все сегодняшние действия. Даже Кнопф, ходячий катарр желудка (а также и кишок), изможденный неврастеник, питавшийся только легкими блюдами, некислыми и нежирными, и притом такими, каких в глухой деревне, да еще в Свентокшишских горах, никто испокон веку не только не едал и не видывал, но даже не знал по названию, человек, невыносимо скучный, страдавший бессонницей, не выносивший крика петухов, лая собак, кулдыканья индюков, гоготанья гусей и даже кудахтанья кур, сущая казнь египетская для людей здоровых, сильных, хозяйничавших в таких местах, где все были страстными собачниками, где гончие, легавые, таксы, дворняги и вообще всякой породы и возраста «кобельки» не только лаяли и выли по целым ночам, но и валялись на диванах и кушетках; где постоянно пели петухи, а если не пели, то их сейчас же за это резали, — даже, повторяю, Кнопф был в этот день в неплохом настроении. Он рассказал какой‑то довольно плоский анекдот о своей астролябии, которую, как подтрунивали злые языки, для защиты от дождя кутал в собственные штаны и куртку и даже прятал в калоши и шляпу… Правда, все дело ему испортил помощник лесничего Гунькевич, преждевременно прыснув со смеху на таком месте, в котором как раз не было ничего остроумного… И все же Кнопф улыбался, что было поистине небывалым явлением на протяжении многих лет и на пространстве трех губерний.
Генерал, старый рамолик, впрочем не так уж плохо сохранившийся, держался с подобающей важностью. Писаря и войта он за этим импровизированным ужином почти не замечал, однако без протеста терпел их присутствие и ничего не имел против того, что они с аппетитом уписывают цыплят и всевозможные холодные жаркие, что, зажмурив глаза, «опрокидывают» по рюмочке очищенной, «запивают» эти рюмочки кружками пива и «согреваются» чаем с ромом. Гунькевича он время от времени удостаивал своим генеральским словом, с Кнопфом — вел разговор. Сам он ел не торопясь и прихлебывал чай. Генерал был поляк и демонстративно говорил всегда по — польски, даже в государственных учреждениях. В разговоре его чувствовались русские обороты и русское произношение, но это произношение как‑то подходило к его осанистой фигуре, толстой куртке какого‑то особенного покроя, круглой фуражке с красным околышем и огромным козырьком, к суконным буркам и седым закрученным усам.
Костер пылал, поддерживаемый лесником. Сухой можжевельник горел, весело потрескивая. Из лесу по ночной росе долетал стук топоров. Стук этот отдавался в лесу, в необъятном свентокшишском еловом бору, в сырой, дремучей и сонной пуще. Отголоски ударов летели от горы к горе, от чащи к чаще, в черную даль, в ночь, в туман. Отраженные, отброшенные, далекие отзвуки трепетали где‑то на краю света, взывали оттуда. Замирая в смятении, они возвращались назад с трясин, куда не ступала человеческая нога, где бродит всякая нечисть. По временам сквозь стук топоров доносился жуткий треск подпиленного дерева, шум и хруст его густых ветвей, могучий глухой грохот от падения огромного ствола. Эхо подхватывало этот звук и несло в темную ночную даль, все глуше и глуше повторяя страшную весть о новом падении… Весь лес ухал и сотрясался, гудел вечную память и живым голосом стонал из темноты.
Огромная красная луна показалась из‑за чащи и медленно поплыла среди темных облаков. Люди у костра примолкли. Потянуло холодом. Неподалеку от костра стояла моя верховая лошадь, серая, тощая, как скелет, кляча с фольварка; приехав на каникулы, я подстриг ей хвост и гриву и мучил ее подпругами старого седла, заставляя через силу скакать галопом. Видны были ее кроткая морда и передние ноги со стертыми копытами, а главное, глаза, в которых словно светилось раздумье и о пылающем костре и о нас, сидящих вокруг него…
Генерал давно уже поставил стакан на поднос и сидел, выпрямившись, изящно отставив ногу и выпятив грудь. Время от времени он оглядывался на лес, слушал, как отдается эхо, и опять поворачивался к костру.
— Далеко ли отсюда до Суходнева, пан помощник? — спросил он, обращаясь к Гунькевичу.
Гунькевич поставил стакан и, склонив подобающим образом свою лысину с зачесанными с висков остатками волос, заявил, что напрямик не будет и десяти верст.
— А вы тут все дороги знаете?
Гунькевич улыбнулся не то надменно, не то снисходительно. Он не находил достаточно убедительных слов, чтобы показать, как хорошо знает он здешние дебри, ведь двадцать лет уже он служит тут помощником лесничего.
— М — да… — буркнул задумчиво генерал. — А вы знаете дорогу от Загнанска во Вздол? Там, у этой дороги, в самом лесу была корчма.
— Загоздье?.. Как же! Стоит.
— Одна корневистая дорога шла оттуда по направлению к Суходневу, а другая, получше, на Вздол, на Бодзентин.
— Так точно, ваше превосходительство.
— Значит, корчма еще стоит?
— Стоит. Самый что ни на есть главный воровской притон; со всего королевства собираются туда конокрады.
— Перед этой корчмой, по другую сторону дороги, был песчаный холм. Большой, желтый… На этом холме росло несколько берез.