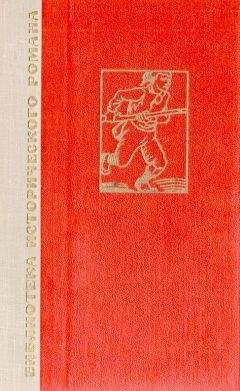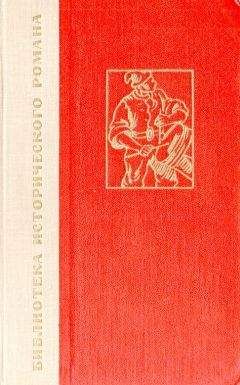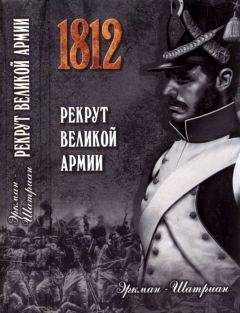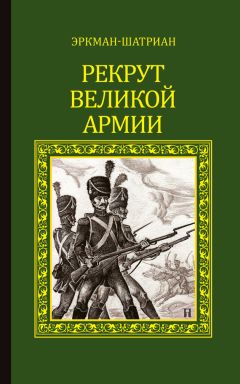Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
– Ничего не надо просить. Особенно у Бога. Он лучше знает, в чем мы нуждаемся. – Зашептал глухо, невнятно: – Я днем вопию и ночью. Душа насытилась бедствиями. Жизнь приблизилась к преисподней. Сравнялся с нисходящими в могилу… – Шептал, перевирая, псалмы, растягивал слова, как в песнопении, а взгляд не отрывался от сырой стены-маппы, по которой путешествовала беспалая рука Крестинина. – Нет во мне ярости… Вот как сильно звал Данилу Анцыферова – плывем на острова, отделимся от России! Нет, побоялся Данила. За страх Господь и покарал Данилу огнем… И прикащик Атласов остановился на полпути. За то господь покарал и Атласова…
Удивился вслух:
– Но я-то!… Всегда стремился!… Знал путь к Апонии!… Почему же сижу в цепях, в сыром подвале? Разве сюда шел?
– Доброе дело грехом не делается.
– Молчи! – монах стремительно обернулся к Крестинину, глаза по волчьи свсркнули во тьме. – Кто ты, чтобы судить меня?
– Сам знаешь – кто. И сам без крови, столь обильно тобою пролитой, почти дошел до Апонии.
– Молчи! – в глазах монаха зажглась желтая ненависть, ледяная, как звезды в морозную ночь. – «Почти дошел!.». Если почти и дошел, то благодаря моим трудам, благодаря моей утерянной в Санкт-Петербурхе маппе. За все спасибо мне должен сказать. Даже за то должен сказать спасибо, что оставил тебя на острове. Не оставил бы, рано или поздно ужасный господин Чепесюк все равно спросил бы тебя: а ну, говори, кто учинил ту маппу? Господин Чепесюк многое хорошо знал… – Усмехнулся: – Ты жизнь прожил чужую…
– Как сказал, монах?
– Ты жизнь прожил чужую.
– Я путь искал в Апонию!
– По чужой маппе!
Вот оно, без отчаяния, даже с некоторым равнодушием, даже с неким странным холодком, подумал Крестинин.
Жизнь прожил чужую!
Прав был старик-шептун. Сбылись все его предсказания.
Но ведь сам шел!… Почему чужую?… Пусть не по собственной воле, пусть сначала подтолкнули, но сам, сам шел! И чугунный господин Чепесюк это видел. Какая ж чужая жизнь?…
Но обожгло душу холодом.
Все, все так, как говорит монах! Не окажись при нем маппы Козыря, Усатый не обратил бы внимания на мелкого секретного дьяка. Не окажись рядом с ним тайного господина Чепесюка, не дошел бы и до Якуцка…
И так далее.
Жизнь прожил чужую.
Прислушался, не понимая, к шепоту монаха:
– Разве во мраке познают чудеса?…
Но монах, кажется, забыл уже о своей вспышке.
Успокаиваясь, нехорошо покашливая, монах снова вглядывался в причудливо вспыхивающие капли влаги, в темную слизь плесени, будто, правда, катились по морю зеленовато-черные валы, подернутые пеной, всклоченные ветром, ударившим от высоких берегов некоего острова, целиком состоящего из огнедышащей горы; шептал:
– А далее Итурпу. Там кых-курилы живут. О том рассказал мне апонец по имени Шитанай, он сам не раз бывал на острове Итурпу. Говорил, что там растут леса, что там много медведей, что ни у кого не состоит в подданстве местный простой народ кых-курилы… – Неожиданно слабым голосом выдохнул из тьмы: – Вот хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет… Знаю, живет там богатый народ… Все у них есть, никому не платят ясак, только души у них во тьме, тоскуют перед деревянными идолами…
Кенилля…
– …Каждый в невежестве погибает, не зная, не ведая о спасении.
Кенилля…
– …Хочу дойти до острова Итурпу, спасу нет. Готов нести любые лишения. Вот несчастен, истлеваю в подвале. Да почему, Господи, ярость Твоя меня сокрушает?
Опять зашептал, жадно вглядываясь в сырую, исчерченную пятнами и линиями стену:
– А там дальше Матмай… Самый богатый остров…
– Почему так думаешь?
– Так рассказал апонец Санима. Там широкие берега. А на широких песчаных берегах – малые тапочки, все с одной ноги, и ломаная лаковая посуда, и всякая снасть. Что море отберет у апонцев, то, изломав, выбросит на широкие берега. Апонец Санима сам рассказал. Апонская обувь, обрывки платья, разбитые бусы, бамбуковая снасть… Откуда все это, если не с близкого острова?… А он самый близкий в тех краях… Матмай… – Странно скосил желто по-волчьи сверкнувшие глаза на лишенную пальца руку Крестинина.
Крестинин усмехнулся:
– Боишься, монах?
– Чего?
– А того, что один уйду к островам. Не с капитаном-командором Витезом Берингом, а сам один уйду. И по своей собственной маппе. А ты здесь навсегда останешься. Понимаешь, монах? Навсегда. Будешь гнить в сырости, да сочинять маппы на заплесневелой стене.
Наступило молчание.
Потом монах медленно поднял голову. Его глаза горели желтым волчьим огнем. Не держи цепь, наверное, кинулся бы. Сказал с ненавистью:
– В жизни только одного человека боялся – тайного господина Чепесюка. Сразу, как увидел, испугался. В тайном господине Чепесюке смерть стояла, как вода в озере, я это с первого взгляда увидел. Но где сейчас тот господин Чепесюк? Кого мне теперь бояться?
– Меня, – твердо сказал Крестинин. – Я к робким иноземцам пойду, а тебя не будет на свете.
– Ты не пойдешь.
– Это почему?
– В деревеньках своих сопьешься!
– Никакого зелья давно не беру в рот. Многие годы не беру в рот никакого зелья.
– А я говорю, сопьешься!
Наступила тишина. Свет лампадки терялся в сырости. Негромко громыхнули железы. С неуловимою насмешкой монах спросил:
– Где палец потерял? – он все еще смотрел на руку Крестинина.
– Зачем тебе знать?
– Всегда хотел об этом спросить.
– В Сибири…
– Когда шел к островам?
– Нет, раньше…
– Гораздо раньше?
– Гораздо… Еще мальчишкой был… Что тебе до того, монах?…
Монах перекрестился:
– А вижу тебя насквозь. Всего тебя вижу. Ты в детстве получил такое увечье, оно как особый знак.
– Почему так думаешь?
– А потому, что вижу тебя насквозь, – угрюмо усмехнулся монах. – А еще думаю, что крест на груди носишь не свой.
Крестинин отпрянул:
– О чем ты?
– А то не знаешь?
– Как понять тебя? Говори ясней. Знаю, не раз ты видел крест на мне. Но почему думаешь, что не мой?
– А потому, что ты крест сорвал с одного мальчишки. А это я был. Под Якуцком. Давно. – Непонятно добавил: – Ковчег в море и ковчег в тесном озере… Разве не видно разницы?… – Зашептал быстро: – Я тебя еще на Камчатке узнал. По кресту. И по искалеченной руке. Коли б тогда, в сендухе, когда вязали отца, не промахнулся ножом, все могло по другому сложиться.
Сухо заключил:
– Коль бьешь ножом, не промахивайся.
Крестинин задохнулся:
– Ты?
Монах закашлялся.
Потом рассмеялся.
В глухом подвале, при незначительном свете, испускаемом лампадкой, этот его смех прозвучал угрожающе.
– Ты, наверное, написан мне на роду. Я всегда тебя помнил. Не знал, где ты, ничего не знал о тебе, из памяти выбросил, а все равно помнил. И в Якуцке сразу узнал. Долго присматривался. Потом решил, что Господь тебя специально послал мне навстречу. Так и решил, что как только построишь судно, так отниму его у тебя. Помнишь, на Камчатке твои люди исчезли? Наверное, догадываешься, что они не просто так исчезли? Если бы не тайный господин Чепесюк, ты бы тоже совсем исчез. Я тогда сразу решил, что как только выйдем в море, так высажу тебя на каком острову или просто брошу за борт. Что допустит Господь, то и будет… Только тайный господин Чепесюк все время мешал…
Монах зябко повел плечом, лишь угадываемым во тьме:
– Никого никогда не боялся. Собственного отца-убивцу не боялся. Государев прикащик Атласов в смыках меня держал, грозил пищалью, бил палкой, я и его не боялся. Данила Анцыферов при самой первой встрече хотел повесить меня, а я и его не боялся, стал при Даниле есаулом. Только тайный господин Чепесюк наводил на меня содрогание, как змея. А ты казался неумным… Пока не заговорил об Апонии…
Хрипло вздохнул:
– Сердце болит, как хочу в Апонию! Я вот всю жизнь всеми силами иду к ней, а ты легкой попрыгушкой – и почти там. По пьяному делу, по чужим маппам – и почти до Матмая… Мыслимо ль?… – Голос монаха дрогнул: – Меня, наверное, казнят… А ты, правда, пойдешь в Апонию?
– Правда.
– Врешь! Сопьешься, собака!
Опять наступила тишина.
Вспомнил: Сибирь, сендуха, олешки мекают. Посреди пустой тундры ураса, крытая ровдугой, на пороге казак с пищалью в руках – лешак сендушный, отчаявшийся, убивца родной жены… «Вали его!» Крик, шум… Крестинин-старший, может, сразу скрутил бы убивцу, только жилистый мальчишка все бросался на него с ножом…
При бледном свете лампадки Иван изумленно вглядывался в лицо расстриги-монаха брата Игнатия. Да он ли?… Как узнать?… Крестинин-старший сапогом сперва отбрасывал дикого мальчишку, потом крикнул Ивану, тоже мальчишке: «Ударь его!» – но дикий мальчишка, злой, верткий, не давался, все бросался и бросался с ножом. Сцепились. Тогда Иван и сорвал с мальчишки крест, а мальчишка палец ему отсек…