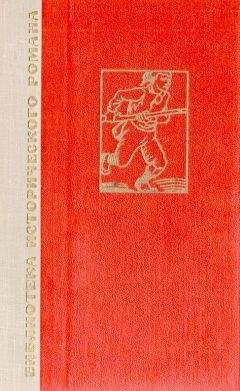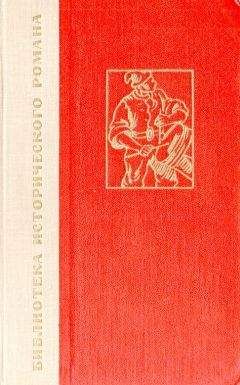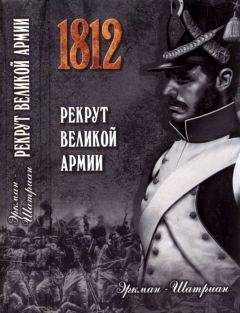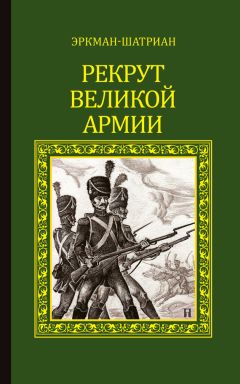Геннадий Прашкевич - Секретный дьяк
– Свет и спасенье… Крепость жизни… Кого страшиться?… – снова забормотал монах, подняв голову, не сводя с Крестинина блестящих, как в болезни, глаз. Сильные приступы кашли прерывали его бормотанье. – И если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, и если захотят они пожрать плоть мою, пусть сами преткнутся и падут… И если ополчится против меня целый полк врагов и противников моих, пусть не будет им никакой удачи, пусть их не убоится сердце мое… И если восстанет на меня сама война, пусть даже тогда буду надеяться… Разве не одного всегда просил я у Господа, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни всей жизни моей, и чтобы созерцать красоту Господню и посещать дом его?…
Крестинин усмехнулся:
– А разве не ты, брат Игнатий, на Камчатке бунтовал казаков прямо в Божием храме? Разве не ты призывал казаков прямо в Божием храме браться за оружие? Разве не ты в неизмеримой подлости своей кричал: да будет проклят тот, кто останется в храме?
Иван не ждал ответа.
Он, собственно, и спрашивал только для того, чтобы отвлечь монаха от перевираемых им псалмов. Знал, заточенный в подвал человек, озлобленный, приговоренный к смерти, часто равнодушен к словам. И был удивлен, услышав:
– Правды хотел…
– А фальшивая грамотка для казачьего головы прикащика Атласова? А убитые на Камчатке государевы прикащики? А брошенные на островах неукротимый маиор Саплин и другие казаки? А убиенный дикующими тайный господин Чепесюк? А проданный в рабство тот же неукротимый маиор и убитые тобой его люди?
Монах смиренно шептал:
– Глас мой будет услышан…
Крестинин перебил:
– Так что ж о прикащике Атласове?…
– Все смертны, – невнятно ответил монах.
– Казачий голова не от старости умер… От ножа умер… И другие прикащики на Камчатке умерли вовсе не от болезней…
Глаза из темноты вновь блеснули:
– Великое дело – прикащиков на Камчатке резать!
– Вы ж вместе служили!
– А прикащик Атласов Данилу Беляева зарезал ножом, вот чего хорошего? Он хуже зверя был, меня подолгу держал в смыках. Меха отнимал у промышленных людей, мог плюнуть в лицо. Против своих же людей, чтобы держать в повиновении, настраивал дикующих. Стало страшно отходить от городьбы острожка. Разве не грех? Мухомором себя травил. Нападал на каждого.
– А прикащик Чириков? А прикащик Миронов?
– И те много грозились, на руку были нечисты, потому и пролилась кровь. В России всегда так… – Спохватившись, забормотал: – На тебя уповаю, Господи… – И вновь упрямо блеснул глазами: – Молчи и не мучай. Терплю за свои грехи… Видел однажды – по реке святой человек плыл на мельничном жернове, я так никогда не смогу… Не удостоюсь… Господь всех создает людьми, но страдаем все, а святым становится один… Конечно, не свят, но стремлюсь к чистому. Далеко ходил, много видел. Путь знаю к богатой стране. Добрый архиепископ Феофан еще вспомнит обо мне, скажет, зачем безвинно терпит смиренный брат по вере? Скажет, много уже терпел сей смиренный брат. Напомнит знающим людям, что только тот брат Игнатий ходил в дальний путь…
– А кровь? – напомнил Крестинин.
– А кровь, что ж?… Кровь отмолю… – хрипло ответил монах. – Поставлю пустынь на Камчатке. Поставлю Успенский храм на реке. Я уже многое отмолил. Когда постригался, вместе с рясой получил имя Игнатий. Много дней и ночей провел на коленях перед иконами. Смиренно и в тайне свершал подвиг веры. Думал, все отмолю. Думал, все отмолю, очищусь, в тихой келийке смиренно доживу жизнь, умственно познавая ход живого. Но стало в монастыре тесно. Вышел запрет о недержании в келиях чернил и бумаги. Одно только и было, что не привинчен на цепь, а все остальное, как везде. Устав, попросился в Тобольск, но якуцкий архимандрит Феофан, собака, не узрел смирения в моих глазах. Сомневаешься, сказал. Сомнение, сказал, разрушает веру. Все мои жалобы в Кабинет Его Императорского величества, в Правительствующий Сенат, в Священный Синод рвал самолично. А я ведь на свой кошт просился и в Тобольск и в Москву, хотел в приказе честно изложить краткий ход в Апонию. А нечестивый архимандрит, остервенясь, бил меня плетью, руку сломал, вымучил весь мой келейный скарб, насильно сделал строителем Покровского, потом Спасского монастырей…
– А ты унес церковные деньги.
Глаза монаха вспыхнули:
– Гляжу, ты мою жизнь изучил! – И, вскочив, громыхнул цепями: – А мои деньги где? Если взял церковные, то только потому, что сильно спешил. В монастыре архимандрит все у меня отнял, а другое еще до пострижения вымучил жестокий прикащик Петриловский. Этот вообще имел ненасытное лакомство на хищения. Он служивого человека Алексея Бурова за совсем малое запорол вилами. Разве ж человек?
Погремел железом, сказал печально:
– Снова в смыках сижу.
Перекрестился:
– Даже воробей не смеет погибнуть без божией на то воли, не допустит Господь и моей смерти. Его волею ведомый уходил из тюрем, из монастырей, плавал по морю, зимовал в ледяных горах. Его волею пришел в Якуцке к господину капитану-командору Витезу Берингу, отправленному императором искать Анианский пролив…
– От правосудия хотел скрыться!
– Правду людям желал открыть! – Монах задохнулся: – К господину капитану-командору шел с чистой душой. Мог принести большую пользу. Показал подробный чертежик пути в Апонию, показал расписание всех островов. Даже господин губернатор Долгорукий советовал господину капитану-капитану Витезу Берингу прибрать меня к экспедиции, как человека, много знающего…
– Уйти хотел от наказания, потому и не взяли!
– Взяли бы, – возразил монах, – только господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг стал препятствием. Лег, как камень поперек ручья. Оказался не вовремя рядом с господином капитаном-командором, человеком медлительным, но много думающим, сей нетерпимый лейтенант. Увидев черную рясу, расстроился. Сказал, что если ступлю на палубу какого судна, он самолично морским кортиком ссечет мне уши и нос и бросит рыбам. А про чертежик сказал, что лгу я. Было видно, что в гордости своей господин лейтенант Мартын Петрович Шпанберг сам стремится первым пройти к Апонии. Был страшен, бесы гудели в нем. Курил трубку, сильно ругался, тыкал в лицо толстым пальцем. Я смиренно ушел. К якуцкому казачьему голове Афанасию Шестакову ушел. На свой кошт…
– На украденные деньги!
– На свой кошт! – яростно возразил монах. – Сам построил судно, сам спустился на нем по Лене, ища выхода в океан, только вмерз в лед в низовьях. На упряжке собак вернулся в Якуцк, а собачки дороги в тех местах, а я ведь и судно потерял… В Якуцке Афанасия Шестакова, хорошего человека, уже не застал, – монах перекрестился. – не было на то воли божией. Сшел Афанасий к чюхчам немирным, в страну коряков. Там и нашел судьбу – коряцкую стрелу в горло. А я… – Громыхнул железом: – А я снова в смыках…
Вдруг спросил:
– А капитан-командор?… Снова идет?…
– А ты откуда знаешь? – негромко спросил Крестинин, помня, со слов думного дьяка Матвеева, что все связанное с новой экспедицией капитана-командора Витеза Беринга, как и в первый раз, при Петре Алексеевиче, держится в самом строгом секрете.
– Сорока принесла на хвосте. – Монах тяжело перевел дыхание, добавил раздраженно: -Без меня им не обойтись… Один я знаю путь к Апонии, а сижу на цепи… Посланные вновь заблудятся… – Тяжело вздохнул: – Не достроил величественный свой храм государь император Петр Алексеевич. Уже и своды возвел, уже и крепить начал, да не дал времени Господь. А теперь недостроенное царем Петром немцы и дураки губят.
Зашептал смиренно:
– В день скорби моей взываю… Велик ты, и творишь чудеса… Наставь, о, Господи, на путь твой, сердце утверди… – Закончил неожиданно: – И пошли опять человека, который бы оскорбил меня, и чтобы опять я бы его простил…
Крестинин прервал невнятное бормотанье монаха:
– Где был, бросив нас на острове?
– К югу ходил.
– Где ж это?
– Везде, где было угодно небу. – Погремел цепями, как бы пробуя их на прочность: – Господь не допустил дойти до цели, наслал ужасную бурю. Будто специально меня, раба своего, хранил для чего-то другого, присматривал за мной внимательно… – Блеснул из тьмы болезненными глазами, переводя разговор: – Вот попрекают дружбой с душегубцом Данилой Анцыферовым. А я к тому Даниле, может, попал не по своей воле. Схватили по дороге люди Данилы, я не к ним шел. А они сказали: будешь с нами, шибко грамотный. Мне что, лезть на ножи?… Не за жестокость особенную, а за грамотность выбрали меня есаулом. Сам знаешь, на Камчатке или убьют или иди со всеми вместе. Вот я и пошел. А с того повалились на меня всякие чужие грехи…
Помолчав, добавил хмуро:
– От своих грехов не открещиваюсь. Казакам грамотность моя понадобилась. Писцовые книги вел, писал челобитные…
– Фальшивую грамоту, которую несли прикащику Атласову, ты писал?
– Я.