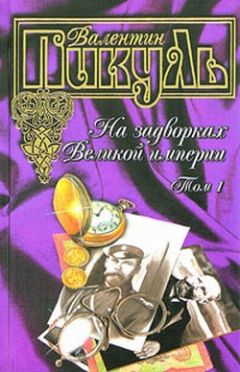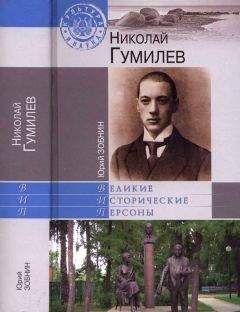Валентин Пикуль - На задворках Великой империи. Книга вторая: Белая ворона
От Симеона Полоцкого – до Максима Горького!
«Но буди правый писаний читатель – не слов ловитель, но ума искатель…»
«Над седой равниной моря… гордо реет Буревестник, черной молнии подобный…»
«Так неужели же все это – ложь? И я, поручик Беклемишев, еду, как палач, расстреливать Москву?.. Кого? Москву?..»
Медленно опускаются пальцы в скользкую кобуру.
Словно черная молния прочеркнула висок юноши…
Хлопают двери в вагоне:
– Эй, кто стреляет?
– Поручик Беклемишев отошел с миром.
– Да ну-у? Нешто сифилису не залечить было?
– А шут ево знае! Стоял-стоял, как все порядочные люди, потом ничего не сказал и хлопнулся… Видать, из-за барышни.
И несут мертвеца вдоль коридора. Болтаются, касаясь тряского пола, белые надушенные руки поручика. Где-то в Саратове тихо догорает лампа, мурлычет кот да сестренка, заткнув уши пальчиками, читает стихи своим крепкощеким статным подругам:
Мы – дети горячего солнца,
Мы – дети свободной мечты,
В тюрьме мы разбили оконце,
В решетку бросаем цветы…
Свистят над степью пронизанные тревогой провода. Толчками движется телеграфная катушка: вводится новое положение о выборах в Государственную думу – больше кресел отводится крестьянству.
Телеграфист сматывает ленту, бегущую меж пальцев, рвет ее.
– Ясно! – говорит. – Опять надежды на консерватизм русского мужика. Нам уже все ясно… давно уже все ясно!
По вечерам за Обираловкой, где губернатор поклялся разбить (но так и не разбил) бульвар для обывателей, за просвистанными в степи скелетами салганов – стучали теперь одинокие выстрелы из казенных винтовок «Арисака».
Возглавлял милицию блудный сын уренской революции гимназист Боря Потоцкий; он повзрослел, обсохли юношеские губы, посерело лицо, замкнутое в глубокие складки. Мама по утрам совала ему в карман бутерброды, и карман нещадно раздувался: гремучая «македонка» рядом с куском колбасы болталась, как груша. Рабочие, гимназисты и обыватели ходили по городу с повязками на рукавах.
Беллашу была поручена подготовка дружин революционного порядка. На Влахопуловской площади, перед собором, строились и сдваивались шеренги, учились рассыпаться в боевую цепь. В хорошей теплой бекеше, покуривая, выходил на площадь капитан Дремлюга, – наблюдал издали, как учится народ воевать с жандармами. Уренский фотограф, расставив на снегу треногу аппарата, снимал учение милиции. И сказал Дремлюге:
– Господин капитан, а вы не хотите попасть на карточку?
– Спасибо, милый человек. Вы без меня их фукните, а карточку мне одну дайте… У меня есть такой альбом, куда я все собираю!
В это время Сергей Яковлевич полюбил убеждать себя и других.
– В любом случае буду прав я! – говорил он. – Первый же день открытия думы прозвучит над Россией, как удар колокола: очиститесь от скверны! Чистые пойдут прямо в рай конституции, а все нечистые отвалятся сами по себе, как клопы, с давно не мытого тела России…
Атрыганьева почему-то князь считал тоже «нечистым». Он привез из Тургая выборные афишки кадетской партии. Нанял дворников, и пошли они, в робкой надежде на выпивку, обклеивать заборы:
«Граждане! Готовьтесь к выборам в Государственную думу. Записывайтесь в избирательные списки. Устраивайте избирательные собрания. Распространяйте программу конституционно-демократической партии – самой передовой…» и т.д.
– Ну, что вы скажете, князь? – восторгался Атрыганьев, когда в Уренске не осталось ни одного чистого забора.
Мышецкий еще раз присмотрелся к афишкам:
– Шрифт неплох – жирный. Но, по правде говоря, я далек от кадетского запала. Легко сказать: будем делать выборы! Но какие могут быть выборы, когда пулеметы расстреливают Москву, мать России? Вы, Борис Николаевич, разве газет не читаете? В женщине, стоявшей возле окна, оказалось сразу шесть пуль. И это не шалый выстрел – это залп…
По вопросу же выборов князь долго разговаривал с Борисяком:
– Я, вы знаете, далек от всякой партийной заинтересованности. Но даже под выстрелами нельзя отказать народу в его заветной мечте – русском парламенте… Вы, надеюсь, согласны?
– Выборы, Сергей Яковлевич, будут сделаны теми, у кого в руках оружие. Оружие сейчас в руках Москвы!
– А я говорю вам, Борисяк: в решении спорных вопросов не следует браться за оружие. Депо – еще не конвент, а Пресня Москвы – еще не парламент. Выстрел есть выстрел, но не голос разума!
– Все это так, князь, – отвечал Борисяк. – Но мы, большевики, против этой буржуазной думы, созданной по щучьему велению свыше.
Сергей Яковлевич раздраженно перебил его:
– Мы, мы, мы… Услышу ли я когда-нибудь от вас личное мнение? Можете ли вы говорить только от себя? Как вы считаете?
Борисяк не обиделся, закинул волосы назад, пригладил.
– Сергей Яковлевич, – сказал он, – я имею право говорить «мы», и вам было бы просто неинтересно разговаривать со мной, если бы я, санитарный инспектор Уренска, говорил только «я… я… я!». Потому-то, на протяжении всей своей службы, вы и вынуждаете меня на искренность, что чувствуете, как умный человек: я – не я, а я – это МЫ, это мнение рабочего класса… так вот, я еще раз заявляю вам, князь: МЫ – против думы!.. МЫ, князь!
Сергей Яковлевич тоже не обиделся, только спросил:
– Значит… бойкот?
– Выходит, так: бойкот.
Навел порядок на своем столе, захлопнул чернильницу, спросил:
– А как относится к этому Ениколопов?
– Лично ему – плевать! Но эсеры тоже за бойкот думы.
– Странно… – задумался Мышецкий.
Странно было еще и потому, что при встрече с акушеркой Корево он высказал ей свои сомнения в отношении бойкота думы Советом, и женщина вдруг перешла на его сторону – на сторону губернатора.
– Бойкот – это ошибка, – толковала Корево, – и я не понимаю, как и вы, к чему бойкот? Когда больно – кричат… Необязательно кричать в трубу, можно и в щелочку: кто-нибудь да услышит!
– Впрочем, – ответил ей тогда Мышецкий, – пусть, меня это не касается. Я – губернатор, а следовательно, должен быть скалой, о которую пусть разбиваются все течения…
Акушерка посмотрела на него чересчур внимательно:
– Ведь это не ваши слова, князь… Кто это сказал?
Сергей Яковлевич прикрыл свою неловкость смехом:
– Булыгин – великий человек: его уже цитируют все губернаторы, в том числе и ваш покорный слуга, князь Мышецкий.
– Нет, – ответила Корево, – это не Булыгин!
– Но слышал я их именно от министра Булыгина!
– Значит, министр тоже перенял их от кого-то… А от кого? Я что-то читала, постойте – вспомню… Вот! Я вспомнила: так наставлял губернаторов сам император. И вы, Сергей Яковлевич, повторяете слова самого царя…
Мышецкий не смутился.
– Знаете, – сказал, – жизнь такова, что всегда приходится кого-то повторять. Боюсь одного… Очень боюсь, как юрист!
– Чего же?
– Военно-полевых судов. А они уже появились. Пока, правда, стихийно. Но боюсь, как бы их не узаконили.
Женщина помялась, зябко дернув плечами:
– На обыденном языке это все равно – смертная казнь.
– Да! – ответил Мышецкий. – Но язык правоведа не повернется, чтобы назвать казнью простое убийство. Последним в России был казнен Каляев – теперь начинаются убийства! Смерть не по закону, а лишь по усмотрению носителей погон. Это есть нечто чудовищное! Сидит там за столом блистательная «троица», тупая и жадная, двери заперты, публики нет, адвоката нет, журналистов нет… А что есть? Только сила машины – безмозглой! Мясорубка! Так, мадам…
Корево повернула к нему свое лицо – мокрое от слез:
– Это пройдет. Но вы… вы опасный человек!
– Для кого? – поразился князь. – Почему? Что случилось?
– Потому что вам, князь, нельзя говорить так. Вы для меня всегда были, простите, маленькой точкой… Где-то очень далеко! Там, где навсегда сходятся воедино печальные рельсы…
– А – сейчас? – спросил ее Мышецкий почти в надежде.
– А сейчас, именно после этих слов, вы быстро увеличились. И стоите рядом. Вы кого-то раздавите на своем пути! Как страшная тяжелая машина, как экспресс, который никогда не останавливается возле маленьких и забытых всеми полустанков…
Мышецкий был донельзя обескуражен: он никак не ожидал, что его протест противу казней военно-полевым судом вызовет такую сложную и непонятную для него реакцию в этой женщине, мимо которой проносится, как экспресс, его путаная губернаторская жизнь.
– О чем вы плачете? – спросил он растерянно. – Не надо, милая госпожа Корево… Что я могу сделать для вас, скажите? Мои слова – не только слова. Пусть город составит коллективный протест против смертной казни в России, и я, князь Мышецкий, торжественно подпишу его первым. Посылайте его куда угодно – я не беглец своих слов. Но ваших слез, простите, так и не понял…
Вечером, волоча в опущенной руке широкий газетный лист «Московских ведомостей», князь Мышецкий поднялся по лестнице наверх – к столу, к лампе, к одиночеству, к подносу с бутылками.