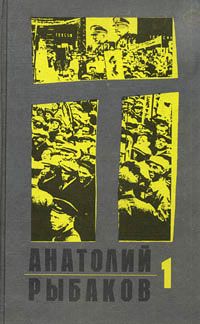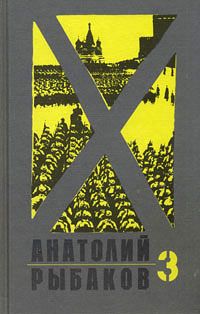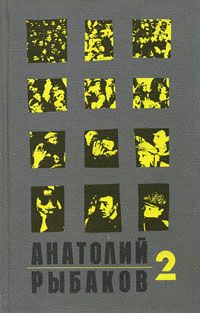Анатолий Рыбаков - Дети Арбата
Четвертым партнером по пульке был Петр Кузьмич, бывший торговец из города Старый Оскол Воронежской области. Начал срок в Нарыме, заканчивал здесь, на Ангаре. Лет за шестьдесят, коренастый, широкоплечий, широкогрудый, с короткой, черной с проседью бородой, в сапогах о заправленными в них брюками и в старом пиджаке, с заплатами на локтях. Единственный здесь, он охотно рассказывал о своих злоключениях.
— Не разрешали — не торговал, — говорил Петр Кузьмич, — позволили торговать — продавал, что мужику требуется: косы, серпы, вилы, москатель всякую, к чему, в общем, с детства приучен. В селе кооперация, а мужик ко мне, все у меня ко времени, знаю, что крестьянину нужно. А потом известно: фининспектор, за ним другой, принесут то налог, то обложение, то самообложение. В тюрьме золото требовали, а где взять? Мое золото — железо: полосовое, сортовое, шинное, кровельное. Золото я раньше только на царских десятках и пятирублевках видел.
Петр Кузьмич рассказывал добродушно — со следователя тоже спрашивают.
— Ладно, торговец я, лишенец, а дети при чем? Разве выбирали они себе отца-мать? Тоже ведь жить хотят, тянутся за другими и в пионеры, и в комсомол, а их гонят отовсюду. Младший, Алешка, мозговитый, уехал в Москву, устроился на завод, присылает газету: «Я, такой-то, порвал с отцом, связи с ним не имею». Обидно. Растил, поил, кормил, а тут — отрекаюсь. А что делать, не мог иначе. Да и верил он, что торговать вредно, чужим, говорит, трудом живешь… Поворочай в лавке бочки с олифой или лемеха, или ящики с гвоздями, узнаешь, какой он, наш труд… Ладно! Поступил Алешка в институт, на агронома решил учиться, была у него склонность к земле. Живет в Москве, в общежитии, а жена ночи не спит — голодует мальчишка. Послал я ему тридцатку, он ее обратно — идейный… Ладно, раз идейный, сиди голодный! А у матери все равно сердце рвется, послала ему с земляками сала шматок, пирогов домашних, наказала не говорить, что от нее. Земляки пришли в общежитие, Алешки нет, оставили посылку на тумбочке, у них возле каждой кровати тумбочка, вчетвером жили. Приходит Алешка, видит посылку — кто принес? Земляки принесли, объясняют. Нет, отвечает, родителева посылка, обратно отошлю. А ребята ему: зачем обратно, поедим кулацкого сала — молодые, здоровые, голодные. Умяли они и сало, и пироги. А потом свой же, что пироги эти уминал, написал в ячейку, будто Алексей мол получает посылки от родителей и, выходит, наврал, будто порвал с ними связь. Исключили Алешку из комсомола, из института, на заводе обратно работает. От своих отрекся, а те, к кому прибился, сами от него отреклись…
— Сто раз слышали, — оборвал его Михаил Михайлович, — в карты смотрите.
— Почему не рассказать молодому человеку, — кротко возразил Петр Кузьмич, — может, и ему интересно. Живы ваши родители?
— Живы, — ответил Саша.
— Не тронули их?
— За что их трогать?
— Захотят, найдут за что. Да и так разве им легко: сын в ссылке. Уж лучше самим в Сибири маяться.
— Не с той стороны вы своих детей жалеете, — с упреком проговорил Михаил Михайлович, — послали посылку, испортили жизнь. Не умер бы без вашей посылки, другие студенты обходятся. И правильно они от нас отрекаются — мы люди конченые. «Революция — локомотив истории», попали под него, смиритесь!
— Выходит, сын не сын, отец не отец.
— Именно так, — со все большим раздражением продолжал Михаил Михайлович. — «Чти отца своего и мать свою» — это от бога, а бог никому не нужен. Их религия — равенство. И так будет всюду, сделают мировую революцию и уравняют всех.
— Хватили вы с мировой революцией, — вмешался в разговор Всеволод Сергеевич, — большевики сами от нее отказались. Государство — вот религия русского человека, он и чтит бога в государе. И повинуется. И не хочет никакой свободы. Свобода вылилась бы во всеобщую резню, а народ требует порядка. Предпочитаю не Степана Разина, не Емельяна Пугачева, а Ленина, даже Сталина.
— Потому-то мы с вами здесь.
— Да. А при Степке или Емельке висели бы на осине. Большевики спасли Россию, сохранили великую державу. При так называемой свободе Россия развалилась бы на части. Новый самодержец укрепляет Россию — честь ему и хвала, а там что бог даст!
— Государство должно защищать своих граждан, ваше государство с ними воюет, — сказал Михаил Михайлович, — со мной, с вами, с Петром Кузьмичом, воюет с мужиком, на котором государство стоит, даже вот, — он кивнул на Сашу, — со своими и то воюет. Я русский, я тоже за Россию, но не за такую.
— Другой не будет, — засмеялся Всеволод Сергеевич.
Посещение Михаила Михайловича не отвлекло Сашу от мрачных мыслей, не сняло тяжести и отчаяния.
Эти сменовеховские и антисменовеховские рассуждения ему знакомы и неинтересны. Человечен только рассказ Петра Кузьмича, неужели нельзя было ликвидировать НЭП без эксцессов… И сломать жизнь парню потому, что товарищи уговорили его умять присланный матерью кусок сала! Тоска…
К этой тоске прибавилась тревога за мать — до сих пор он не получил из дома ни одного письма.
По средам ссыльные собирались на берегу Ангары, ждали почтовую лодку — главнее событие в их монотонной жизни. Бабы полоскали белье, ребятишки купались, вылезали из воды, дрожа от холода, ссыльные ходили по берегу, вглядывались в туманную даль реки. Наконец внизу показывалась крошечная точка, волнение усиливалось — почта или нет. Почтальон в брезентовом плаще с откинутым на спину капюшоном выбрасывал на берег мешок с фанерной биркой «Мозгова», раздавал почту, принимал письма для отправки.
Саша тоже выходил на берег, вместе со всеми ждал почту, но письма получал только от Соловейчика — «Наполеону в ссылке», так и было написано на конверте, он все еще шутил, бедняга Соловейчик, опять был исполнен оптимизма, послал ходатайстве о переводе его к Фриде или Фриды к нему. Из Москвы от мамы Саша ничего не получал. Он телеграфировал ей из Канска в мае, тогда же послал первое письмо. Допустим, неделю ответ шел в Канск, предположим, в Канск письмо пришло, когда почта на Богучаны уже ушла, значит, лежало в Канске еще неделю. Еще неделю валялось в Богучанах в ожидании переадресовки в Кежму. Итого три недели, а он здесь уже больше месяца. Всеволод Сергеевич его успокаивал:
— Первого письма всегда ждут подолгу. Вы считаете по-своему, а почтовое ведомство по-своему. Иногда письма из Москвы идут три недели, иногда три месяца, почему, никто не знает. Бросили по ошибке не в тот мешок, сломалась телега, скинули почту в сельсовете, половину растеряли. Уронит почтарь мешок в Ангару — всю жизнь прождете. И наш дорогой товарищ Алферов погибает от скуки, потому с удовольствием читает наши письма, а если какое-нибудь особенно ему понравится, скажем, по своим литературным достоинствам, он продержит его месячишко, может вообще оставить у себя. Ваш расчет времени неточен, вашу телеграмму из Канска могли переврать, ваше первое письмо почему-либо до вашей матушки не дошло, значит, она получила только второе письмо и ответ ждите еще через месяц-полтора. Наберитесь терпения, мой друг.
Всеволод Сергеевич прав, и все же, видя, что другие получают письма, газеты и посылки, а он нет, Саша нервничал. С каждой почтой отправлял маме два-три письма, писал, что устроился хорошо, квартира у него прекрасная, люди крутом тоже прекрасные, ничего присылать ему не надо, он ни в чем не нуждается.
Грустный возвращался он с берега домой, шел деревенской улицей, с ним здоровались, будто ничего не произошло, будто не его обвиняли во вредительстве, не его вызывали в Кежму. И он понимал, что для деревни действительно ничего не произошло, никому до него нет дела, как пригнали сюда, так и угонят, таких, как он, тут перевидали сотни. Привыкли к мертвым, убитым, пропавшим, детей спецпереселенцев и тех не приютили.
И председатель колхоза Иван Парфенович не обращал внимания на Сашу, глядел равнодушно, сообщил куда надо, там пусть и разбираются, у него своих забот хватает.
Встречал несколько раз Зиду, она смотрела на него вопросительно, он кивал ей головой в знак приветствия, но не останавливался, видел по вечерам огонек в ее окне, но не заходил. Жалел ее, но ничего с собой поделать не мог, не до нее ему теперь, ни до кого, ни до чего.
Общался только с Федей, заходил в лавку за тем, за другим. Федя относился к нему по-прежнему дружески, попросил как-то починить велосипед.
— Ну уж нет, — ответил Саша, — ничего я вам теперь чинить не буду, сами делайте!
— Из-за сепаратора, что ли? — догадался Федя.
— А хотя бы.
— Может, еще и обойдется, — неуверенно проговорил Федя.
Саша вздрогнул. Значит, в деревне понимают, что дело вовсе не кончено. Может, обойдется… А может, и «не обойдется». Знают, если пришивают вредительство, не отвертишься…
— Я думаю, обойдется, — несколько более уверенным тоном продолжал размышлять Федя, — сепаратор работает, его в МТС свезли, а там сказали, резьба сошла, выходит по-твоему. Да он мужик невредный.