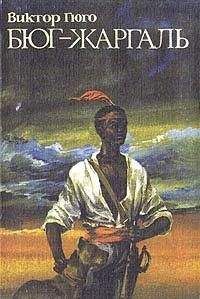Фаина Гримберг - Клеопатра
— Не принимай его всерьёз! — говорила она об Антонии. — Он не может измениться. Его никто не принимает всерьёз!.. И... Не думай о Египте!.. И никому!.. — Она почти шептала, затем вновь заговорила обычным голосом... — Что ты думаешь о моём плане?..
Антос помолчал, он действительно обдумывал слова матери. Наконец произнёс, глядя в её ожидающие глаза:
— Я надеюсь, до этого не дойдёт. Я люблю Александрию...
На этот раз она не стала сдерживаться, ухватила его за щёки порывисто и целовала...
Помириться с Антонием, конечно же, оказалось не так трудно!
Он уже махнул рукой на всё происшедшее и только повторял:
— Да я и не хотел!.. И всё равно!..
— Всё равно будет война, — спокойно сказал Антил.
И это были самые нужные слова! И все обрадовались этим словам, потому что эти слова были — совершенная правда! А все прочие слова, и даже и дела, действия, могли запросто оказаться химерой!..
Маргарита вдруг удивилась. Нет, она не предполагала, на самом деле не предполагала, что её первенец согласится на примирение с отчимом!..
В самой простой одежде отправились всей семьёй кататься в большой барке. Гребцы дружно налегли на весла. Барка пошла в море. В тайном своём дневнике Маргарита записала:
«...мы плавали по морю. И рыбы показывались из воды морской и показывали свои жёлтые глаза. И Хурмас в жёлтом коротком экзомии. И неспокойный Ифис пугается волны и карабкается на меня. И Марк и Антос берут у гребцов по веслу и принимаются сами грести, и машут вёслами в разные стороны. И Тула смеётся. И я пригибаю Ифиса, и мы увёртываемся от брызг. И Антил вдруг прыгнул, плюхнулся в воду и поплыл, фыркая как собака. И Марк и Антос затаскивали его назад в барку. И Тула пугалась, а потом смеялась...»[86]
Всё-таки дети щедро дарили ей это чувство правоты и это чувство уверенности в себе, так свойственные матерям!..
Вечером звучали стихи...
— Гимерий гуляет с Цецилией
Гуляет в сумерках в саду...
И далее:
— Мы стали богатыми
И бедным себя раздали...
И далее:
— ...мой бывший друг не любил зиму,
неплохо говорил по-армянски...
И далее:
— ...каждый день думаю...[87]
И опять и опять спорили о стихах, о прозе, о древней истории... Врач Филот острил:
— ...кому жарко, тому надобно дать холодной воды. Но всем, у кого жар, естественно, жарко. Стало быть, каждого, у кого жар, следует поить холодной водой!..
— Мне не очень внятна эта медицинская острота, — сказала царица.
— Нет, почему? Это смешно! — заметил Антил. — Надо вознаградить Филота за такую выдумку! — Мальчик обернулся к мачехе: — Могу я подарить ему вон ту чашу?..
— Дари! — отвечала Клеопатра, даже и не взглянув на чашу. Однако на следующий день Полина, жена Филота и синдрофиса царицы, распорядилась отослать чашу назад во дворец, извинившись в почтительном письме за своего мужа, который осмелился принять в подарок столь старинный и тонкой работы и, в сущности, бесценный сосуд...
Ирас рассуждала о последователях Пифагора и говорила, что число — единственный идеал гармонии, который возможно отыскать в реальности!
— Это не пифагорейство, а гиперборейство! — похохатывала Маргарита...
Ирас тряхнула волосами.
— Я вижу, ты косы отращиваешь, — Маргарита наклонилась к Ирас, сидевшей на ковре подле царицы... — Решила женщиной стать?
— Если я захочу, я могу ощутить себя и женщиной, но я хочу отрастить косы, потому что косы — древний воинский убор мужчин в тех краях, откуда я родом! — отвечала Ирас.
— Ты вспомнила? — Маргарита спросила с любопытством. — А больше ты ничего не вспомнила?..
— Нет, — Ирас замкнулась, не хотела говорить...
Ночью Антоний шатался по улицам Александрии, в разных вертепах угощали его дешёвым вином и вяленой рыбой, принимали как своего, он пьяно болтал с ними, да и они ведь не были трезвыми...
* * *
Она понимала всё равно, что истинного примирения с Антонием не будет! Она не могла забыть, как он унизил её; и Антос не забывал, помнил, и не мог потому истинно примириться с отчимом. А мог ли Антоний примириться с ней, со своей женой? Это так просто было, и пошло, и смешно. Потому что он не мог примириться с её старением!.. И расстаться они тоже не могли. А Рим упорно молчал. И лучше бы грозился. Они здесь, в Египте, будто оборотни-волки, со всех сторон окружённые большой охотой... И Антоний устраивал воинские учения, и распорядился наконец-то о переделке ряда торговых кораблей в необходимые для предстоящей войны суда, военные суда. А денег не хватало и не хватало... И он уходил один, углублялся в извилистость змеиную улочек ночного Ракотиса. Его узнавали, поили, он проводил часы раннего утра с дешёвыми девками. Солнце подымалось. Он возвращался во дворец, кутался в плащ. Торговцы плодами угощали его, мужа царицы, фигами и яблоками...
А Маргарита снова и снова звала в свою спальню Хармиану, растолстевшую почти чудовищно, волочившую опухшие ноги в мягкой обуви, но по-прежнему уверенную в себе, властную. Хармиана приносила мази в коробочках, жидкие снадобья в стеклянных флаконах. Царица сидела, запрокинув лицо. Хармиана пошлёпывала её по щекам, обмывала и обмазывала лицо и шею своей питомицы белым, розовым, зелёным... Царица закрывала глаза. Хармиана красила разными чёрными красками её седеющие волосы, брови, ресницы... Маргарита всё реже и реже смотрелась в зеркало. Апатичность и тревожность странно сочетались теперь в её натуре. Ей не минуло ещё и сорока лет, но она ощущала себя стареющей, изнурённой... Зрение её слабело. Можно было бы завести такие же линзы, какие были у Антония в Риме, но он давно уже не пользовался замечательными полезными стёклышками, спокойно передвигался в тумане близорукости и даже и не щурился. Однажды она спросила его, как же он передвигается, не видя, в сущности!
— Я чувствую, — ответил он. — А твоё лицо я вижу. Сам не знаю, как это получается, но я вижу твоё лицо!..
Он говорил уверенно. Он мог разлюбить её, но не мог расстаться с ней.
Тело её менялось. Груди сделались большими, будто опухли. Поверх платья она завешивала грудь ожерельями или накидывала большие платки, вышитые золотыми или серебряными нитями... Она посмотрелась в ручное зеркало и заметила тотчас на правой щеке тёмную коричневую круглую родинку наподобие лишая, уродующую лицо. И никакие снадобья Хармианы не действовали на этот нарост, не сводили его...
Антоний полагал армию готовой к войне. Все, какие возможно, корабли, то есть торговые корабли, переоборудованы были в военные суда. Он томился, и Маргарита видела, как он томится.
— Не лучше ли выступить первыми? — полувопросительно предложила она.
— Нет, не лучше! — Он ответил ей грубо, жёстко, отчуждённо. — Рим — это Рим!
— Ты боишься Рима? — Эта фраза вырвалась у неё невольно, проговорилась мягко, почти робко...
Лицо его сделалось злобным. Он круто повернулся и ушёл от неё...
Потом она поняла, что он... нет, он не боялся Рима... Он всего лишь сознавал, что если прежде ему доводилось участвовать в гражданских войнах Рима, то теперь ему предстояло стать врагом Рима! Не врагом Лепида, или Октавиана, или Брута, но врагом Рима!.. Он предал Рим! Даже убийцы Юлия Цезаря, Брут и Кассий, не предавали Рим. Они хотели изменить систему власти в Риме, то есть вернуть Рим назад, к республиканскому правлению, но они не предавали Рим! Никто не предавал Рим!.. Разве что Секст Помпей... Но Марк Антоний чувствовал себя истинным предателем Рима!..
И Маргарита понимала его чувства, угадывала их, но не знала, как утешить его... Моя беда в том, что я уже не молода и не красива!.. Я разучилась красиво улыбаться, я уже не в силах быстро бежать, не задыхаясь...
Он возвращался к ней. Они беседовали примирённо. Из канцелярии приносили царице для подписания незначительные распоряжения, указы, трактовавшие вопросы городского благоустройства. Он наклонялся низко, всё-таки близорукость мешала ему, он указывал на описки, на неуклюжие стилистические обороты, гордился своим знанием греческого языка. Она вспоминала, как он старательно отвечал когда-то на каждую филиппику Цицерона...
— ...вот это место прикажи переписать... — он тыкал кончиком пальца, — здесь должен быть такой оборот...
Иногда эти замечания умиляли её, иногда — вызывали глухое раздражение, нервическое желание огрызнуться, но она сдерживалась...
Впрочем, она знала, что и он полагается на интендантские способности и опытность Максима, так же, как и она.