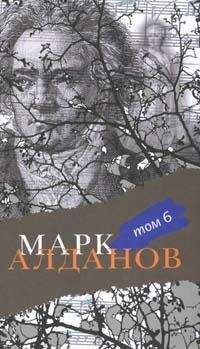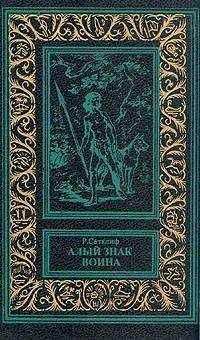Розмэри Сатклифф - Меч на закате
— Которая получила его от Уты, моего отца и твоего деда, наутро после того, как он провел с ней ночь. Все это я знаю не хуже тебя, и именно поэтому ты должен его снять.
— Почему? — спросил он, все еще прикрывая его ладонью.
— Потому что он парный к тому, что носит над локтем Верховный король Амброзий. Это королевский браслет принцев Британских.
Он отнял закрывавшую браслет руку и поглядел на тяжелые, сверкающие кольца.
— Королевский браслет Британии, — задумчиво проговорил он. — Да, возможно, будет… нетактично носить его при дворе Амброзия, — он очень медленно стянул огромный браслет и засунул его за пазуху своей грубой овчинной туники. — Видишь, какой я послушный и покорный сын, отец.
Я встал, и он немедленно и со всеми подобающими изъявлениями почтительности поднялся на ноги.
— Уже за полночь, а нам завтра рано выезжать. Идем, я покажу тебе, где ты сможешь заночевать.
Я не стал будить никого из слуг; по правде говоря, мне слишком претила мысль, что его кто-нибудь увидит. Я уже вынес достаточно для одной ночи. Эта новость и без всякой помощи должна была быстро разлететься по всей Венте. Я взял запасной фонарь, зажег его от жаровни и провел Медрота в небольшую кладовую с земляным полом, где сам спал последние две ночи.
В дверях я хотел было его оставить, но он удержал меня, стоя против света фонаря.
— Отец…
— Да?
— Собираешься ли ты признать меня? Или я поеду с тобой завтра просто как новичок, появившийся неизвестно откуда, чтобы примкнуть к твоему войску?
— Ну, поскольку ни один человек, глядя на тебя, не сможет ни на миг усомниться в том, что ты — мой сын, — ответил я, — то мне сдается, что ни у тебя, ни у меня нет особого выбора.
— Отец…, — повторил он, запнулся и продолжил: — Неужели ты не найдешь для меня ни одного доброго слова в ночь, когда я впервые пришел к тебе?
И его голос задрожал.
— Мне очень жаль, — ответил я, — но это не та ночь, когда у меня найдется много добрых слов.
Однако я прикоснулся к его плечу и потрясенно осознал, что он дрожит так же, как и его голос.
Он сделал глубокий вдох и внезапно протянул ко мне руки, как могла бы сделать женщина.
— Артос, отец мой, я выбрал для своего прихода неподходящую ночь; но откуда же мне было знать… И, горюя о смерти ребенка, все же не забывай, что я твой живой сын! Разве приход сына не может хоть немного возместить другую потерю этой ночи?
Это могло быть детской просьбой уделить ему хоть немного тепла или просто невероятно неуклюжей попыткой утешения, но я уже знал, что Медрот никогда не бывает неуклюжим, что когда он ранит, то делает это хладнокровно и обдуманно; и я чуть было не дал ему в зубы. Но он был моим сыном. «Мой Бог! Единственный зачатый мною сын!» — кощунственно подумал я. Я был больше не в состоянии говорить, поэтому повернулся и пошел обратно в атриум.
Теперь мне негде было спать, но мне все равно не спалось; у меня было такое чувство, словно я никогда не засну снова. Я опустился на табурет у жаровни, поставил локти на колени, положил голову на ладони и закрыл саднящие глаза, чтобы защитить их от света, который как будто впивался в них острыми когтями. На моих плечах тяжким грузом лежало ощущение обреченности, и комната была словно заполнена ненавистью Игерны, дотягивающейся до меня даже после ее смерти. И Медрот был жив, а дитя, которое я любил, лежало в могиле; все, что было во мне, казалось разбитым и кровоточащим, и я блуждал в бесконечной пустыне.
Гуэнхумара пришла и нашла меня там. Я услышал, как ее шаги приближаются по плиткам пола, почувствовал ее слабый, неопределенный запах и понял, что она стоит прямо у меня за спиной. Но я не поднял глаз.
— Значит, это был твой сын, — выжидающе помолчав, сказала она.
— Было бы бесполезно отрицать это, не так ли?
— Он очень похож на тебя. Так похож, как сын может походить на своего отца; вот только в его глазах, в отличие от твоих, ничего нельзя прочесть. И это делает его еще более опасным.
— Только если он уже опасен, — тусклым голосом отозвался я.
— Твой сын, так похожий на тебя, как этот, появившийся неизвестно откуда с Королевским Драконом Британии на руке и, если я не ошибаюсь, с какой-то долей твоей власти увлекать людей за собой.
— Все это само по себе ничего не значит, — возразил я; думаю, я защищал его больше перед самим собой, чем перед ней.
— Само по себе нет, — согласилась она, а потом добавила: — Отошли его прочь, Артос.
— Я не могу… не должен.
— Почему? Ты боишься тех козней, которые он может начать строить против тебя где-нибудь в другом месте, если ты сделаешь это?
— Может быть, — сказал я. — Нет. Все не так просто. Если я ушлю его отсюда, то буду ничем не лучше лошади, отворачивающей от препятствия, которое она все равно должна преодолеть. Он — моя судьба, мой рок, если хочешь, Гуэнхумара. Когда я впервые увидел его, то словно посмотрел на своего двойника. Никто не может избежать того, что ему назначено; лучше встретить свой рок лицом к лицу, чем попытаться бежать и получить удар в спину.
— Артос, мне страшно, когда ты говоришь так. Ты словно уже наполовину потерпел поражение.
— Нет, пока я не попытаюсь бежать.
— Тогда, если ты не собираешься отсылать его прочь, я буду молить Бога, чтобы он нашел смерть в бою, — и поскорее.
Я не осознавал, что мои глаза закрыты, пока не открыл их и не обнаружил, что смотрю в рдеющую адскую пасть жаровни.
— Нет! Гуэнхумара, ради Христа, — нет; я сам уже слишком близок к тому, чтобы молиться об этом.
— И зная то, что ты знаешь, почему бы и нет?
— Потому что, чем бы он ни был, это моя вина, моя и моего отца, который выпустил в мир это зло.
— Твоего отца может быть, хотя он не сделал ничего такого, что не сделали бы многие другие до него, — быстро проговорила она. — Но не твоя! Ты виноват не более, чем медведь, попавший в вырытую для него ловушку.
Внезапно ее ладонь легла мне на затылок и неуверенно, легко скользнула к моей щеке. Но когда я поднял руку, чтобы прикоснуться к ней, она задержалась только на мгновение, словно для того, чтобы я не подумал, что Гуэнхумара отталкивает меня, а потом была мягко, но непреклонно убрана в сторону.
— Идем спать, Артос. Тебе просто необходимо выспаться, и, как ты сам сказал, утром вам придется выехать рано.
И вот так я снова оказался в широкой кровати рядом с Гуэнхумарой, и в том, чтобы быть подле нее, было некое успокоение. Но ребенок разделял нас так же верно, как в ту ночь, когда я привез их обеих домой из Полых Холмов; так же верно, как обнаженный меч, который Бедуир положил между собой и Гуэнхумарой в лютую зиму перед тем, как дитя родилось.
Глава двадцать пятая. Тени
На следующее утро я дал Медроту меч и большого чалого жеребца из резервного табуна, и мы выехали из Венты под мягким летним дождем, пришедшим вместе с рассветом. Кабаль, как обычно, скачками несся впереди, а рядом с ним бежала более легкая и изящная фигурка Маргариты, и оба время от времени оглядывались на меня. «Возьми собаку с собой, — сказала Гуэнхумара. — С тобой ей будет лучше». Но я знал, что выносить постоянный скулеж белой суки, снова и снова обыскивающей одни и те же места, было выше ее сил.
В Дурокобриве наш отряд остановился на ночь, и я забрал оттуда свою лошадь; и к закату второго дня мы въехали в лагерь.
Я отвел Медрота в свою хижину, а потом отправил его вместе с поджидавшим меня оруженосцем забрать из обоза снаряжение и поискать себе что-нибудь поесть — отдавая этот приказ, я отвернулся, сбрасывая плащ и седельную сумку, чтобы мне не нужно было видеть выражение лица юного Риады. Я уже видел слишком много выражений слишком многих лиц — изумленные или надолго задержавшиеся взгляды, внезапно расширенные или суженные глаза, — когда въезжал в лагерь рядом с Медротом.
Оставшись после их ухода наедине с самим собой, я стоял, глядя в пустоту и теребя пыльные доспехи, но не продвигаясь к тому, чтобы снять их. Мне бы следовало немедленно отправиться по делам; видит Бог, у меня их было достаточно; но я все еще медлил, давая новости время разнестись по лагерю.
Вскоре на утоптанной земле послышались шаги, и в неровном проеме двери вырос Бедуир; и когда он наклонился, чтобы войти внутрь, его силуэт закрыл собой подернутое рябью пламя заката.
— Артос… мне сообщили, что ты вернулся. Какие новости? Какие новости о малышке?
— Она мертва, — ответил я. — Она умерла за час до того, как я приехал домой.
И свинцовые слова прозвучали для меня так, словно их произнес кто-то другой.
Над ними сомкнулась тишина. Я не мог видеть лица Бедуира, но слышал, как он хрипло сглотнул. Потом он проговорил:
— Тут нечего сказать, ведь так?
— Да, — отозвался я, — тут нечего сказать.