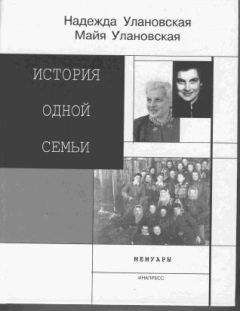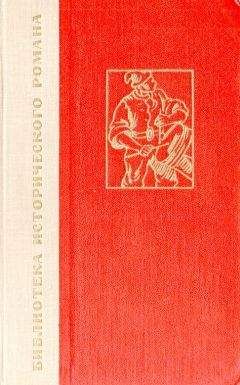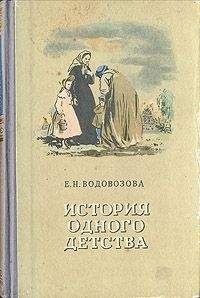Эркман-Шатриан - История одного крестьянина. Том 1
Не стоит описывать возгласы, объятия, рукопожатия и клятвы победить или умереть — каждому известно, что так всегда повторяется и что с той поры спесивые и тупые людишки не раз вводили народ в обман с помощью своих мерзких газет и им удавалось разжигать такой же энтузиазм, подстрекая к войнам, которые не имели никакого отношения к Франции и принесли ей огромнейший урон. Только на этот раз народ проявлял энтузиазм по своему почину, сражался, защищал свое имущество, свою свободу, а это лучше, чем пойти на гибель ради славы короля или императора.
И я всегда с умилением вспоминаю всех этих мужчин и женщин, стариков и старух — сгорбленные, усталые, обвивают они руками плечи сыновей, которых только что записали в полк волонтеров; вспоминаю бедняков, прямо сказать — несчастных горемык, жителей Дагсберга, которым нечего было оберегать — они, дровосеки и угольщики, жили в хижинах и никакого прока от войны им не было, но они любили свободу, справедливость и отечество! А все то, что патриоты жертвовали в дар и родителям волонтеров, и раненым, и на обмундирование войск, а приношения от убогих калек, которые умоляли муниципальные власти принять и их грошовую лепту, а мальчуганы, лившие слезы потому, что не доросли до того возраста, когда можно стать барабанщиками и трубачами! И все это было так естественно! Ведь каждый делал, что мог.
Но одно особенно яркое воспоминание придает мне силы и так молодит, будто мне снова становится двадцать лет — воспоминание о том, как в тот полдневный час, когда дядюшка Жан, Летюмье, батюшка и я сидели за столом в библиотеке Шовеля, когда из-за нестерпимого дневного зноя затворены были ставни, когда время от времени звонил колокольчик и Маргарита спешила к посетителю и снова возвращалась, не смея взглянуть на меня, а я, несмотря на доброе вино и вкусную еду, не мог веселиться наравне с остальными да прикидываться, будто рад, что вот-вот отправлюсь в поход в Виссенбургский военный лагерь, Шовель вдруг взял бутылку старого вина, зажал ее между коленями и, откупоривая, сказал:
— Это вино, друзья мои, мы разопьем за здоровье Мишеля! Ну-ка, опорожните стаканы!
И, ставя бутылку на стол, он серьезно посмотрел на меня.
— Слушай, Мишель, — продолжал он, — ты знаешь, я люблю тебя уже давно, а сегодня ты поступил так, что я стал уважать тебя еще больше. Поступок твой доказывает, что ты — честный человек. Ты сразу, не колеблясь, выполнил свой патриотический долг, несмотря на все, что тебя здесь удерживает… И это хорошо!.. Вот ты отправляешься в поход, будешь защищать права человека, — если б у нас не было других обязательств, ты бы один не ушел, мы были бы вместе с тобой в строю. Ну, а сейчас признайся откровенно: неужели тебе не о чем сожалеть в разлуке? Неужели ты уходишь с радостным сердцем? Неужели тебе не хочется о чем-нибудь попросить нас? Попросить о таком патриотическом даре, который преподносят людям, уважаемым и любимым?
Он не сводил с меня глаз; я почувствовал, что заливаюсь краской, и невольно посмотрел на Маргариту — бледную, потупившую взгляд, но спокойную. Я не мог вымолвить слова; стояла глубокая тишина. И Шовель, глядя на батюшку, сказал:
— Папаша Бастьен, наши дети любят друг друга, верно?
— Да еще как верно, — отвечал батюшка. — И уже давным-давно.
— А что, если мы их помолвим? Как вы смотрите на это, папаша Бастьен?
— Ах, господин Шовель, да это составило бы счастье моей жизни.
И пока он так говорил, сияя от радости, мы с Маргаритой поднялись, все еще не смея приблизиться друг к другу. И тогда Шовель воскликнул:
— Да обнимитесь же, дети мои! Обнимитесь!
В тот же миг мы бросились в объятия друг друга. Маргарита припала лицом к моему плечу. Отныне она моя! Какое же это счастье — обнять свою милую вот так, на глазах у всех родных и друзей. С какой гордостью ты держишь ее в своих объятиях и какою же могучей должна быть сила, которая может вас разлучить!
Дядюшка Жан смеялся громко, от души, как смеются добрые люди. А Шовель, сидя на стуле, повернулся к нам и сказал:
— Итак, вы помолвлены. Мишель, ты отправляешься в поход. А через три года, когда вернешься, она будет твоего женой. Ведь ты будешь ждать его, Маргарита?
— Вечно! — отвечала она.
И она крепко обняла меня. А я с невольными слезами все твердил:
— Я всегда любил одну только тебя… и одну тебя любить буду!.. Я рад, что иду сражаться за всех вас, потому что люблю вас.
И я снова сел. А Маргарита поспешила выйти. Шовель наполнил стаканы и воскликнул:
— Вот какой у нас сегодня чудесный день!.. За здоровье сына моего Мишеля!
А батюшка сказал:
— За здоровье моей дочки Маргариты!
И все хором мы провозгласили:
— За отечество!.. За свободу!
В тот день в Пфальцбурге сто шестьдесят три человека были зачислены в национальные батальоны волонтеров.
Вся страна горела энтузиазмом и рвалась на защиту того, что мы обрели; ни единой души не осталось на полях. На площадях и улицах только и слышались возгласы:
— Да здравствует нация! Наша возьмет!.. Наша возьмет!..
В воздухе стоял колокольный звон, и что ни час била пушка у арсенала, так что дребезжали стекла. Мы, сидя в лавке, все еще пировали. То и дело какой-нибудь патриот кричал, останавливаясь в дверях:
— А волонтеров-то сколько!
Его зазывали, подносили ему стакан вина — выпить в честь родины. Шовель брал изрядные понюшки табаку и возглашал, помаргивая глазом:
— Дело идет!.. Все будет хорошо!
Он говорил также о том, что в Париже назревают крупные события, но какие именно — умалчивал.
Дядюшка Жан уже взял к себе на ферму в Пикхольце первым подручным моего брата Клода, — безобидный, бесхитростный малый, отличный работник, ревностно выполнял все, что ему поручали, но своими мыслями не жил, а дядюшка Жан таких предпочитал, потому что ему нравилось командовать. А сейчас он пообещал пристроить на ферме и мою сестренку Матюрину: нечего было и думать, что в наших краях найдешь работницу лучше, исполнительнее, рачительнее ее; пожалуй, она была слишком уж расчетлива, как бывает тот, кто живет своим трудом. Дядюшка Жан решил до моего возвращения заправлять кузницей и для этого немедля наладил все свои дела. И у батюшки, который еще зарабатывал по восемьдесять су в день, освободился от долгов и завел две козы, вид сейчас был предовольный, тем более что Шовель обещал приискать в городе местечко для моего брата Этьена.
В пятом часу явился секретарь мэрии Фрейлиг и сообщил, что пфальцбургские волонтеры выйдут из города завтра в восемь часов утра и направятся в Виссенбургский лагерь, а в Грауфтале, где назначено место общего сбора, они подождут остальных, из других селений округа. При этом известии мы стали серьезнее, но все же веселое расположение духа нас не оставляло. Мы пировали до тех пор, пока на дворе не стало темнеть. Пришло время возвращаться в Лачуги. Шовель запер лавку, Маргарита взяла меня за руку и с непокрытой головой проводила до Французской заставы. Впервые люди видели нас с ней вместе на улице и, глядя на нас, кричали:
— Да здравствует нация!
Шовель, крестный Жан и батюшка шли вслед за нами. На мосту, против гауптвахты, мы с нежностью обнялись. Шовель и Маргарита воротились к себе, а мы пошли дальше, пели песни, смеялись, как беспечные счастливцы, да и что тут греха таить — чуть опьяневшие от доброго вина и от удачного дня. У всех, кто нам встречался, было такое же расположение духа — мы обнимались, кричали хором:
— Да здравствует нация!
Около девяти часов, уже темным вечером, мы расстались с дядюшкой Жаном и Летюмье у дверей харчевни «Трех голубей», пожелав им доброй ночи. Они-то, вероятно, улеглись и безмятежно уснули, нам же с бедным моим батюшкой суждено было иное. Все это я рассказываю, чтобы вам стала ясна вся моя история; кроме того, на этом свете хорошее и плохое идут рядом, да и надо вам знать, что хоть патриоты в конце концов и одержали победу, но давалась она нелегко, потому что у каждого в семье была своя Вандея.
И вот мы с батюшкой спускаемся по старой улице, покрытой рытвинами, заваленной навозом; луна озаряет нас дивным своим светом. Мы поем с самым веселым видом; впрочем, мы напускаем на себя веселье, чтобы самих себя приободрить: думаем мы о матери — ведь она будет так недовольна, когда узнает, что я отправляюсь в поход волонтером, а еще больше — что я помолвлен с еретичкой. И поем-то мы лишь для того, чтобы чувствовать себя увереннее. Но шагах в ста от нашей лачуги всякое желание петь у нас пропало, и мы остановились: мы увидели мать. Она была в своей обычной юбке из серого холста, в большом чепце, завязанном на затылке; волосы у нее свисали прядями, худые руки торчали из коротких, по локоть, рукавов кофты. Она сидела на приступке у дверей нашей ветхой хижины, обхватив руками колени, прижавшись к ним подбородком; она издали сверлила нас взглядом, глаза ее блестели, и мы поняли: она уже знает обо всем, что произошло.